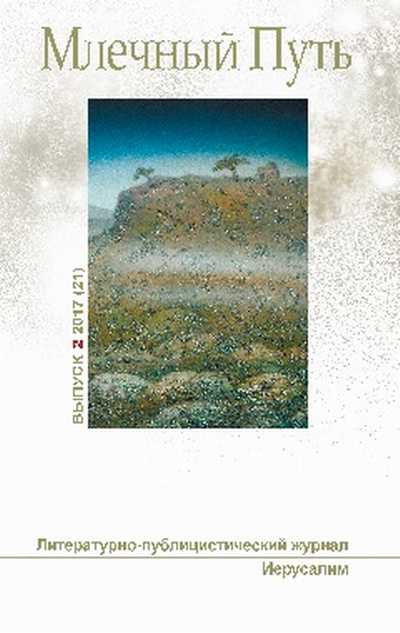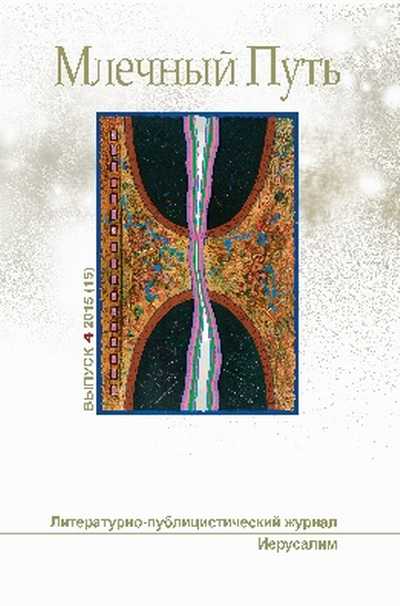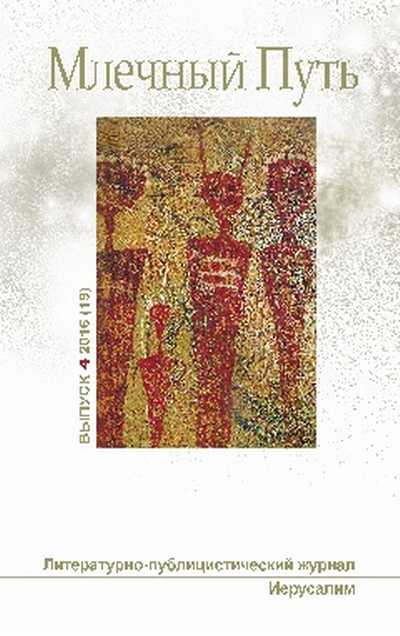о Панягине журналисты опубликовали больше всего материалов: необычная судьба, мальчик мечтал о космосе, готовил себя в космонавты, но авария все перечеркнула. Перелом позвоночника, паралич ног, инвалидная коляска. Алекс стал физиком-теоретиком, занялся квантовой физикой, космологией и теорией релятивистских объектов. Рассказывал Алекс не о себе, а о черных дырах и, в частности, об Энигме. Мы заслушались, хотя каждый, конечно, успел прочитать и посмотреть о черных дырах все, что мог найти в Интернете, узнать на лекциях, прочитать в книгах – в том числе специальных и трудно понимаемых. За несколько часов общения с Алексом мы узнали о космосе столько нового, сколько не усвоили за все время тренировок.
Джеймс Чедвик оказался свойским парнем, он всех обаял и создал впечатление классного специалиста, ни слова не рассказав о своей работе и ни разу не упомянув ни одного специального термина. Говорил о детстве, о мечте, об учебе, о жене и дочери, о красоте закатов и о том, как он не любит бегать кроссы, но приходится – нужно сохранять спортивную форму.
Амартия Сен был молчалив, но слушал так внимательно и с таким упоением узнавания, что мне в какой-то момент начало казаться, что говорит он больше всех, перебивая и комментируя каждую реплику. Странное ощущение, я не сумел его объяснить, рассказал Эйлис, а она воскликнула: «Обожаю таких людей! От них получаешь больше положительных эмоций, чем от лучшей подруги, болтающей о своих проблемах».
Если говорить об эмоциях, их я больше всего получил, слушая Луи Эжена Нееля – в отличие от других, француз рассказал и о своей интимной жизни, и о браках (он был женат трижды, с последней женой расстался за неделю до зачисления в экипаж), и о ежегодных походах в Альпы, и о современной медицине, самой сложной, по его мнению, самой важной и самой таинственной науке среди всех наук.
Я тоже рассказал о себе, многого не договаривая. Почему-то мне казалось, что, поскольку стану физическим носителем, то покопаться в моих мыслях и ощущениях каждый из них сможет потом. Это мне и не нравилось, и приводило в восторг, и вызывало ужас, и интриговало – масса эмоций, о которых я ни словом не обмолвился при встрече, но Штраусу, конечно, все выложил, а тот, хотя и отнесся очень серьезно к этой моей, как он ее назвал, фобии, объяснил, что никто из четверых субличностей не станет, да и не сможет докучать мне своими проблемами, я и знать не буду, что каждый станет делать в мое «отсутствие». В мое отсутствие – это поражало меня больше всего и стало вначале сильнейшей фобией, от которой, впрочем, меня избавили задолго до процедуры «встраивания».
Произошло это буднично, в Хьюстонском Институте психологических проблем, директором которого был Штраус. Небольшая комната, тахта, как на приеме у психоаналитика, обычный шлем, беспроводной – на голове почти не чувствуешь. Стены светло-салатные, успокаивающий цвет. Когда вошел Штраус с помощницей и снял с меня шлем, будто я вернулся после поездки на мотоцикле, я удивленно спросил: «Что, все?» – «Конечно, – бодро сообщил Штраус, передавая шлем помощнице. – Вы же знаете всю процедуру».
Это было за две недели до старта. С Эйлис мы попрощались рано утром, когда за мной заехала машина из Института. Эйлис… впрочем, это неважно, не имеет отношения к истории, к науке, к познанию космоса, к «Нике»… ни к чему в этом прекрасном мире. Кроме нас двоих. Двоих, что бы ни говорили медики о том, что личная память после «встраивания» становится общей, и каждый из нас, пяти, знает все, что происходило прежде с каждым из нас, пяти, только вызывать воспоминания по своему желанию не может, поскольку общим у нас стало подсознание, а с ним ни поговорить, ни послушать, ни убедить – ничего.
Один-единственный раз за время полета мы – пятеро – сможем «собраться» вместе. Услышать друг друга, поговорить. Принять решение. Выполнить задачу. Сделать то, для чего меня – нас – отправили за тридцать семь миллионов километров от нашего общего дома.
За десять минут до расчетного времени пролета «Ники» мимо Энигмы.
А если потом мы не сумеем «разойтись»? Я сойду с ума? Во мне будут говорить, кричать, спорить, самоутверждаться четыре голоса, от которых я не смогу избавиться?
«Пусть это вас не беспокоит, – сказал Штраус. – вы видели доклад о клинических испытаниях. Говорили с донорами. Изучили все материалы. Семь полных процедур. Ни одного сбоя».
Я хотел сказать, что меня успокоили бы сто сорок три удачных испытания. Лучше – три тысячи – без сбоев и проблем. Но время поджимало, «Ника» должна была стартовать вовремя. Семь полных процедур – в успех можешь верить, можешь не верить, но лучше – верь, поскольку согласился.
Я поверил.
Напрасно?
***
Мне напоминают, что следующие двадцать минут я должен посвятить физическим упражнениям на тренажере. Не люблю, хотя знаю, что – надо. Тренировки почти всегда выпадают на мою долю. Так решила команда Штрауса, и я понимаю – почему. Мое тело, мне и управлять им. Не Алексу же – у него практически угасли двигательные рефлексы. И не Амартии – он точно сделает что-нибудь не так, и в результате у меня будет повреждение лодыжки или растяжение мышц. Тело-то не его, можно и загнать, как лошадь. Джек и Луи… Вот честно: не знаю, как они повели бы себя с моим телом, если бы тренировки происходили во время их бодрствования. Ощущают они себя в это время, будто в скафандре, или тело для них как свое?
Конечно, мы говорили об этом перед «встраиванием». Впятером говорили, и со Штраусом, и с другими психологами и психиатрами НАСА.
Я кручу педали, растягиваю эспандер, робот массирует мне мышцы, кровь приливает то к ногам, то к голове, а я смотрю на экраны, на показания приборов, на числа, числа, световые маркеры. Все нормально, все хорошо, последняя коррекция курса завтра в четыре восемнадцать. Не знаю, кто будет бодрствовать – надеюсь, что Амартия. Но точно не я, никогда не просыпался в такую рань. Наверно, инстинкт.
Двадцать семь часов до Энигмы. Думаю об этом спокойно. В носовом иллюминаторе те же звезды, ни на глаз, ни даже с помощью всех девяти установленных на борту научных приборов никакого микролинзирования, хокинговского излучения, дискового свечения. Ничего. Может, ничего не произойдет, даже когда «Ника» пролетит от цели на расстоянии расчетных трех километров? Просто пролетит и продолжит полет – уже по возвратной части траектории?
Мне почему-то кажется,