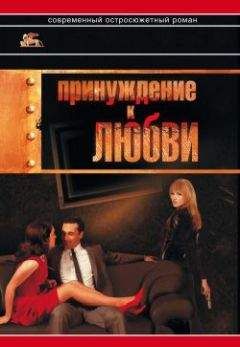Да что там какой-то Литвинов! Я не мог поверить, что Анетта просто переживала за меня, когда уговаривала не лезть в эту историю, а вовсе не боялась, что я чего-то нарою и докопаюсь до следов ее участия! Стыдно, мой милый, нехорошо.
[26]
Летом родители, задерганные работой, жизнью, вдруг осложнившимися между ними отношениями, отправили мальчика в детский лагерь, где он оказался среди таких же, как он, взвинченных подростков. Лагеря тогда уже воспринимались, как место, куда попадают лишь дети из самых скромных советских семей, чьи родители не имеют возможности устроить им летний отдых покруче и поприличнее. И мальчик очень остро ощущал эту ущербность и даже переживал. Ему казалось, что его бросили, забыли, и пока он тут, в стае пугающе незнакомых и непонятных ему детей, пытается приспособиться к новым порядкам и правилам, сами родители живут своей жизнью, не думая о нем!
Это были новые, странные, не известные доселе мысли и ощущения. Они вдруг открыли ему какие-то новые стороны жизни, о которых он раньше и не подозревал, но о которых он теперь не мог не думать…
Нельзя сказать, что кто-то его там особо обижал, но он вдруг оказался одиночкой среди сразу разбившихся на группки и стайки подростков, ревниво и безжалостно защищающих свои права. И очень скоро он остро и ясно почувствовал свою отделенность от других, свою необъяснимую непринадлежность к ним.
Они жили в тесных дощатых так называемых палатах, и кровати их, разделенные лишь узкими допотопными тумбочками, были тесно придвинуты друг к другу. Там же в углу палаты была небольшая комнатка, где спала вожатая их отряда, веселая и не видевшая ни в чем особых проблем студентка старшего курса пединститута. По ночам вожатые и воспитатели, как водится, собирались в домике администрации, где выпивали, веселились и крутили необременительные романы.
Однажды мальчик никак не мог заснуть, мешало вдруг овладевшее им до нервной дрожи возбуждение, духота, комары, сосед, почему-то метавшийся на койке рядом, вскрикивающий и скрипящий зубами во сне…
Мальчик тихо выскользнул из палаты. Ночь была ветреная. Шум деревьев был каким-то особенно гулким и таинственным. Из домика администрации доносились звуки музыки и неразборчивые, но возбужденные голоса. Мальчик чувствовал, что жизнь его непоправимо меняется, надвигается что-то новое, с чем он еще не знает, как справляться.
А потом появилась вожатая, веселая и простодушная, как всегда.
- Ледников, а ты тут чего? - удивилась она. - Не знаешь, что ночью выходить из палаты нельзя?
Мальчик лишь смущенно пожал плечами.
- Спать не хочется? - как-то не по-вожатски, а по-товарищески спросила она.
- Хочется, - соврал мальчик. - Только этот Бахрамов зубами скрипит.
- Бывает, - беспечно согласилась вожатая, от которой явственно пахло духами и вином. - Только спать-то надо.
Она потянулась, закинув руки, и ее сильная молодая грудь напряглась под тонкой майкой.
- Ну что мне с тобой делать? - понарошку задумалась она. - Я этого Бахрамова, знаешь, и сама боюсь, когда он зубами скрипит.
И вдруг легко и радостно решила:
- А давай-ка я тебя к себе положу, хочешь? Там этого Бахрамова не слышно.
Мальчик не знал, что ответить. А она легко, по-мальчишечьи толкнула его кулачком в плечо.
- Давай, Ледников, пошли, а то уже скоро и ложиться будет незачем.
В ее комнатке стоял складной диван, который она быстро разложила. Потом застелила его простыней, бросила две подушки и два куцых одеяла и сказала:
- Давай ложись к стенке, закрывай глаза и спи. А я пойду умоюсь.
Она взяла полотенце, подмигнула ему и ушла.
Мальчик холодными руками приподнял одеяло и забрался под него. Дрожь не проходила. Он уперся лбом в стенку и закрыл глаза.
Она вернулась минут через десять, когда он еще не спал. Ему показалось, что она что-то чуть слышно напевает. Потом что-то шуршало за его спиной, диван скрипнул и прогнулся, и она легла рядом с ним. А вдруг она догадается, что я не сплю, испугался мальчик. Испугался так же, как тогда, на даче, когда услышал, что в соседней комнате творится что-то жуткое и непонятное…
Но на сей раз страх его быстро прошел. Он лежал тихо, не шевелясь, но всем телом ощущал исходящее от ее тела тепло, вдыхал ее запах, слушал ее дыхание и головокружительно отчетливо понимал, как его жизнь наполняется новым смыслом и этот смысл станет едва ли не самым важным и необходимым в его жизни…
- Мальчуган, ты меня слышишь? Ты где, мальчуган?
Анетта… Моя страстная и бесстрашная Анетта! Какое счастье, что с ней можно увидеться прямо сейчас, закатиться в какое-нибудь уютное местечко, а потом отправиться прямо домой, чтобы убедиться в очередной раз, что нет в жизни ничего важнее любимой женщины, рядом с которой меркнет и забывается, уходит в тень все остальное…
Голос Разумовской вернул меня в действительность.
Я стоял на Сухаревской площади, раскаленной летним пеклом. Вокруг рычали стада обезумевших машин, куда-то летящих, будто решая вопрос жизни и смерти, рядом на травке отдыхали уже никуда и никогда не спешащие бомжи, а напротив был Институт скорой помощи, где днем и ночью страдают, умирают и возвращаются в жизнь люди.
Здесь я, моя Анетта!
Правда, на сей раз меня занесли в эти места вовсе не служебные дела в конторе Бегемота. С ним я порвал сразу же после гибели Женьки Веригина. Пусть его участие в той истории было вынужденным и не решающим, видеть эту морду я уже не мог. Потому что сразу вспоминал Женьку и его жуткую смерть. А еще потому, что не хотел иметь ничего общего с делишками, которые обстряпывал Бегемот. Наша нынешняя жизнь, конечно, малоаппетитная штука, но у Бегемота была способность превращать все, к чему он прикасался, в помойные отбросы. Заниматься его перевоспитанием я не собирался и потому решил проблему проще - никаких дел, ничего общего, ни при каких условиях, ни за какие деньги.
А Женьки нет, и помнит его все меньше и меньше людей. Те же, кто был его недоброжелателями и врагами, не протянули долго. Вслед за Литвиновым покинул сей беспокойный мир и его босс Бучма - сначала чуть не помешался от страха, а потом не перенес инсульт. Новое начальство аннулировало все сделки, о которых писал Женька, и никто не знает, что ждет «крокетовское» хозяйство теперь. Прокуратура практически одновременно прекратила дела в отношении Веригина и Литвинова. Об этом мне не без радости сообщил Сережа Прядко. Что ж, у этих дел действительно не было никаких иных перспектив.
Отец, узнав об этом, только поморщился. Зато он вдруг заметно взволновался, когда позвонила мать и сообщила, что она хочет приехать в Москву, хотя за неделю до этого говорила мне, что раньше чем через год не появится…