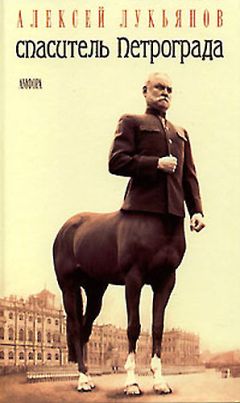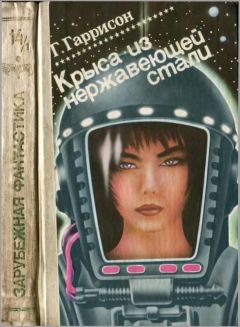Внизу, в темноте бетонного коридора, зажглись фонарики. Все еще пахло теплой кровью — двое подорвались на растяжке. Именно этот глухой взрыв и захлопнул ловушку, он и послужил сигналом к атаке.
— Панов, что там? — крикнул вглубь туннеля лейтенант.
— Плотно, — послышался голос, и луч света выхватил в двух метрах от входа скрюченного Панова. — Тут и бригада саперов только через неделю управится.
— Чистить не будем, так пойдем, — приказал Колючий. — Пусть сами чистят, а мы еще пару подарочков оставим. Крикните там замыкающим, пусть спускаются, и минируйте вход.
Шли след в след, двадцать один человек плюс лейтенант Колючий впереди. Шли уже пятнадцать минут. Хрен знает, когда чехи сунутся проверить, чего это взвод Колючего замолчал, идти надо быстрее. Есть три ответвления в этом туннеле, ныряем в третье — и сваливаем. Нет, лучше во второе.
Первым заметил, что потолок ушел круто вверх, кто-то из новеньких.
— Идиоты, чем по сторонам смотреть, под ноги глядеть надо, — зашипел Колючий. Сзади ухнул взрыв. Ерогов глянул на часы — сорок три минуты прошло. Это треть пути. И ни одного ответвления?
— Херово, — пробубнил он, но услышавшие это замечание отнесли его к темпу движения.
— Может, прибавим ходу, командир? — спросил радист, пыхтевший под рацией.
— Оставь ты эту дуру, на хер она тебе сдалась, — ответил, не оборачиваясь, лейтенант. — А ходу прибавить нельзя, мины кругом.
— Может, кончились уже?
— Может, и кончились, — согласился Колючий. — Но пару растяжек я тебе и с закрытыми глазами прямо сейчас покажу.
Потолок вырос очень высоко, и стены тоже куда-то подевались. Исчезло эхо, гулял ветер, что-то скрипело, стучало, трещало и лопалось. Иногда фонари выхватывали из темноты очертания высотных зданий, кто-то узнавал в них гостиницу «Космос», районный загс, пивной ларек на Большевистской, баню деда Толи… кто-то скорее почувствовал, чем увидел, что над взводом прошли два, ростом с телеграфный столб, человека, а то вдруг колонна солдат оказалась меж колесами гигантской легковушки.
Солдаты, даже те, что уже видели потрошеных чехами земляков и дружков, распакованных взрывами как консервная банка под паровым молотом, ежились. Новички присвистывали. Остальные еще тупо плелись, ставя сапоги точь-в-точь на след впереди идущего.
— Взвод, бегом, аарш! — крикнул Колючий и припустил вперед. Все увидели, что впереди зажглась искра выхода из норы, и ринулись за лейтенантом.
Панов выскочил на свет божий у метро «Баррикадная» и столкнулся нос к носу с давним кредитором Мишкой, которому должен был полсотни баксов. Витман сделал шаг из туннеля и оказался на углу Северной и Матросова, едва не угодив под колеса проходящего мимо грейдера. Радист вместе с так и не оставленной переносной радиостанцией ухнул со второго этажа родной общаги и сломал ногу, но, в общем, был доволен исходом событий.
Куда вышел лейтенант, не узнал никто. Но он знал, куда выйти.
Италия. Первая четверть века. Пышным цветом цветут китайские яблоки.
В Милане начало театрального сезона. Театры «Ла Скала» и «Пиккола Скала» забиты народом, большей частью макаронниками, но хватает тут и америкосов, и кацапов, и москалей, прочего быдла тоже хватает — все пришли гранд оперб слушать. В смысле — не лягушатников на гастролях, а просто большую оперу, высокое искусство.
Блистает на обеих лестницах не кто-нибудь, не какой-то там Робинзон Карузо или Паваротти, а сам Федор Михалыч, в смысле — Иваныч. Рукоплещут ежедневно тысячи и тысячи поклонников всемирно известного баса, даже Чарльз Спенсер Чаплин, знаменитый комик и режиссер. Впрочем, неудивительно — они вместе пели.
Небо ярко-голубое, цвета сильно разбеленной ФЦ, если вам это о чем-то говорит. Паровозы маршрута «Roma-Milano» и «Milano-Roma» весело покрикивают вдали, мафиози с густо напомаженными волосами сидят в пиццерии неподалеку от театра и внимают голосу великого русского баса, скупыми глотками цедя красное вино.
Маслянисто блестит море, шуршат волны, поют гондольеры — из Венеции до Милана двести пятьдесят километров по железной дороге с промежуточными станциями в Падуе и Вероне. Море ждет Шаляпина, Венеция ждет Шаляпина, а он поет в Милане. Тоскуют гондольеры — сегодня не поется.
Бравые ребята с бритыми затылками, в черных рубашечках с закатанными рукавами не спеша приближаются к «Ла Скала».
— Эй, мальчики, выпьем за Бенито! — кричат мафиози. — Молочка! Или вам трудно из стаканов? Так мы можем вас из соски угостить.
— Потом, сицилийские морды, потом, не спешите… Скоро мы всем коммунистам надерем их красные задницы, и вам в том числе.
Начинается потасовка. Мелькают палки и ножи, слышатся выстрелы, на место происшествия поспешает полиция и оказавшийся неподалеку военный патруль, изрядно покалеченных молодчиков увозят в участок, откуда они вскоре будут выпущены, мафиози же успевают скрыться еще до того, как их заметут в каталажку. Сицилийцы знают, что там их никто не поддержит.
Вскоре изрядно поредевшие ряды чернорубашечников входят в театр.
На улице вечереет, звенят цикады, мафиози возвращаются и пьют кьянти. Китайские яблоки умопомрачительно пахнут в сумерках. Кто-то жарит чебуреки.
Федор Иваныч допевает арию Мефистофеля, и переходит к романсам. В это время среди зрителей появляются уже известные нам ребята, и по рядам прокатывается волна недовольства. Многие покидают свои места и уходят из театра.
— Ну, погодите, вашу мать, — думает Шаляпин, прерываясь на половине куплета, и поет песенку герцога из «Риголетто» на чистейшем итальянском. Басом.
— Браво! Брависсимо! — кричит публика.
— Отстой! Долой краснопузых! — вопят фашисты.
А Федор Иваныч, не останавливаясь, переходит на «Дубинушку», и что-то во время исполнения русской народно-освободительной песни глухо стучит. Оказывается, это ребята в черных рубашках с закатанными рукавами валятся один за другим меж кресел, и на затылке каждого из них образовывается неслабая такая гематома. Москали утирают уголки глаз платками — вот какова сила искусства. Кацапы всхлипывают. У лягушатников внутри все переворачивается, хочется женщину и мушкет, запеть марсельезу — и на баррикады. Макаронники в зале и мафиози за стенами театра мотают на ус: что-то сейчас произойдет.
Венеция грезит вечером. Некий сеньор в манишке и кальсонах вылетает из окна в канал, выныривает, отфыркивается, взбирается на подплывшую как раз вовремя гондолу и заявляет по-русски:
— В Пассаж, милейший.