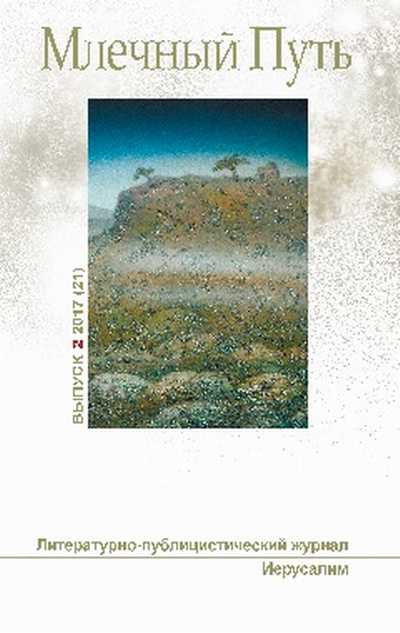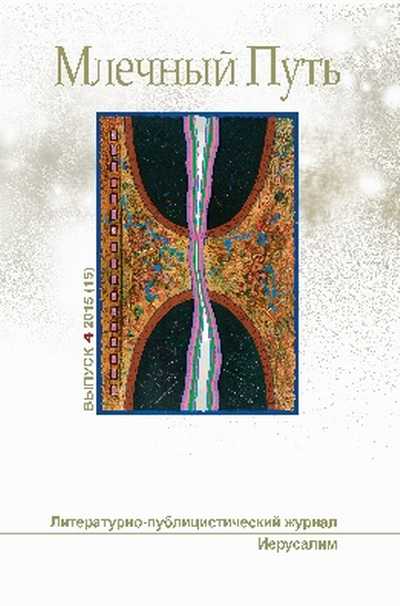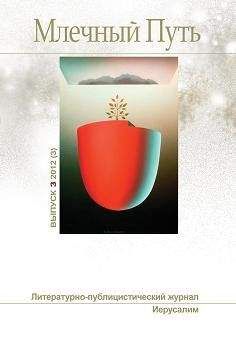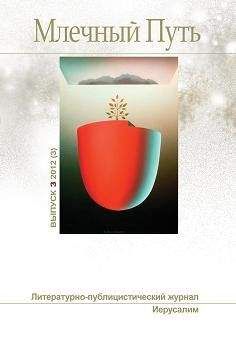крепкие скалы, выкорчевывая деревья, с разбега прыгая через глубоководные и широкие ручьи. <…> Направление прокофьевских стремлений – к солнцу, к полноте жизни, к праздничной радости бытия» [Мартынов, 1974, с. 158].
В отличие от Стравинского, родившегося в седьмой фазе, на закате идей уходящего года Феникса, Прокофьев был звонарем новой эпохи. Примечательно, как ощущал эту разницу между двумя композиторами Б. Асафьев, В 1914 г. он писал в статье «Стравинский и Прокофьев»:
«Сопоставление творчества этих двух талантливейших современных русских музыкантов наводит на мысль о различиях значения музыки того и другого с точки зрения смены идей. Стравинский – последний представитель утонченнейшей и вместе с тем усталой, пресыщенной культуры. <…> В творчестве Стравинского нет движения вперед, а только изощреннейший синтез прежних достижений. Стравинский – весь в прошлом». И он продолжал развивать эту идею:
«Когда слушаешь музыку Стравинского, кажется, что его слово – последнее, что все – достигнуто; дальше идти некуда и бесполезно. И действительно, бесполезно, если идти по пути Стравинского. <…> Но вот появляются сочинения Прокофьева: веет свежестью, бодростью, самоуверенным тоном человека, сознающего свои силы. <…> Создается впечатление, будто бы автор шутит, играет с витающими в его душе звуковыми образами, что за ним много еще недоговорено, что конца не видно его замыслам, и даже предположить нельзя, каковы-то они будут».
Асафьев, родившийся до наступления часа Феникса, смотрел на Прокофьева, как на непостижимую загадку: «Ни в какие рамки не вогнать пока творчества Прокофьева и никакой мерой не измерить – все будет насилием, потому что творчество его в будущем, и судить его надо по его же законам. Теперь же нельзя не верить <…>, что перед нами подлинная, истинная красота, может быть суровая и терпкая для нашего изнеженного вкуса, но от этого не менее приемлемая, чем утонченнейшая ядовитая красота звуковых очарований Стравинского. Мне кажется, что Прокофьев имеет право не только не любить, но даже ненавидеть всю старую культуру, старую музыку. Он обязан верить только в себя, и в этом смысле быть односторонним. В такой односторонности – его сила. Потому что в его творчестве преобладают семена будущей, неведомой нам духовной озаренности».
Согласно Дневникам Прокофьева, его отношение к Стравинскому совпадало с мнением Асафьева. Так в 1922 г., в споре со Стравинским Прокофьев закричал ему прямо в лицо: «Мой путь настоящий, а ваш – путь прошлого поколения!» [т.2, 2002, с. 205]. В записях 1927 г. Прокофьев приводил беседу с критиком и публицистом Сувчинским, где тот подчеркивал разницу между оригинальностью Прокофьева (пифагорейская эра) и «вторичностью» Стравинского (эпикурейская эра):
«Опять говорили о Стравинском. Сувчинский находил у него какую-то, как он называет, “вторичность”. Он хочет сказать, что у Стравинского есть свойство брать уже существующий материал и применять его по-новому так, что получается вещь, имеющая характерное его собственное лицо. Это идет через все его творчество» [т.2, 2002, с. 591].
Разница поколений и в том, что Стравинский не сочинял музыку для кино, а музыку Прокофьева отличает ее «кинематографический пульс» [Шлифштейн, 1977, с. 106]. Резкий всплеск в развитии оперного искусства и зарождение жанра музыки к кинофильмам принадлежали поколению нового часа Феникса. Именно на долю уроженцев 1885 – 1900 гг. (в их числе С. Прокофьев, Д. Темкин, а также селестиальные близнецы М. Стайнер и И. Берлин) выпало донести симфоническую музыку в массы. Благодаря их вкладу в киноискусство, классическая музыка получила свой шанс приобрести небывалую дотоле популярность на всей Земле. Об уникальном таланте Прокофьева, позволившем ему отличиться в создании музыки кинематографа, писал в эссе «ПРКФВ» его друг, уроженец часа Феникса, режиссер С. Эйзенштейн: «И везде – искание: строгое, методическое. Роднящее Прокофьева с мастерами раннего Возрождения, где живописец одновременно и философ, а скульптор – неразрывно – математик». Показательно, что для характеристики Прокофьева Эйзенштейну пришлось оглянуться на 500 лет назад, к прошлому часу Феникса! Показательно также, что ближайшие друзья Прокофьева, Николай Мясковский и Борис Асафьев, родившиеся в седьмой фазе часа Феникса, не оставили своего следа в кино.
Начало пифагорейской эры второго часа Феникса в Близнецах
В Часах Феникса было прослежено, как чутко реагировали поэты на смену эпох. А что нового внесли композиторы, рожденные в час Феникса, такие как Сергей Прокофьев, Албан Берг, Пауль Хиндемит, Джордж и Айра Гершвин, Коул Портер, Эйтор Вила-Лобос, Франсис Пуленк, Дариюс Мийо, Артюр Онеггер, Жорж Орик, Дюк Эллингтон, Макс Стайнер, Ирвинг Берлин, Дмитрий Темкин?
В час Феникса, как правило, происходит выброс новых идей сразу по многим направлениям. Рождаются те, в ком будущие поколения сумеют разглядеть «предтеч». Прислушаемся, как пророчески звучат слова Прокофьева, написанные им в 1926 г. под впечатлением концерта Гершвина: «Создавалось впечатление, что он не есть настоящий композитор, а лишь предтеча другого, который, использовав эти средства, напишет настоящую музыку» [т.2, 2002, с. 366].
О «взрыве» в музыке свидетельствуют слова Асафьева о втором концерте Прокофьева для фортепьяно с оркестром (1911 – 1912): «Музыка не столько яркая, сколько эмоционально конденсированная, “сгнетенная” до духоты. Отсюда непрестанная тяга к мощным нарастаниям в поисках выхода из окружающей сферы в жажде разряда-взрыва. Это действительно музыка кануна 1914 года» [Вишневецкий, 2009, с. 79]. Учитывая, что премьера второго концерта Прокофьева состоялась до издания первой книги акмеистов (Камень Мандельштама в 1913 г.), можно предположить, что музыкальный барометр эмоций был более чутким, чем поэтический.
Важно к тому же, что центральная тема второго концерта совпадала с основной темой «жизни-смерти» поэтов, рожденных в час Феникса. И так же, как у них, концерт завершался триумфальной победой Жизни.
Вернемся к опере. Прокофьев верил, что она должна стать самым ярким и могущественным из сценических искусств. 19 марта 1919 г. директор фирмы Стейнвей получил письмо от мецената Отто Кана, гласящее: «Прокофьев и опера – это интересная тема». «А не на пороге ли мы значительного события?» – записал Прокофьев в тот день в Дневнике [т.2, 2002, с. 28].
Впоследствии Шлифштейн отмечал важную роль Прокофьева в метаморфозе оперы, перешедшей от «музыки жеста к музыке души» [1977, с. 104]. Музыка в операх Прокофьева приобрела новое измерение. Она не фокусировалась больше на внешних событиях, а прислушивалась к «пульсу душевной жизни человека», раскрывая сразу целый комплекс «противоборствующих эмоций». Так зародился новый жанр, именуемый «исторической оперой-романом», в котором главной сферой действия являются не нарративы, а душевные состояния [Шлифштейн, 1977, с. 67].
Как и поэты, уроженцы часа Феникса, Прокофьев обращался к тематике метаморфоз, подобным перерождению птицы Феникса. Одним из наиболее исполняемых его произведений стала мини-опера «Гадкий утенок» по