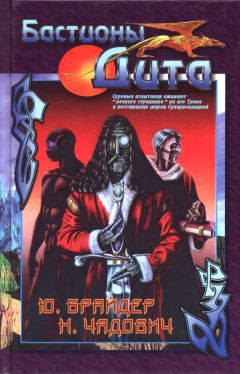– И смею заметить, шуточка весьма злая, – добавил Топтыгин. – Что вы имели в виду под политическими трудностями, которые могут возникнуть в результате сокращения посевных площадей под ячмень и эти самые… как их… фиги?
– Ничего не имел, – честно признался Костя.
– Так ли уж? – произнес Топтыгин с непонятной иронией. – А под Департаментом палачей, у которого раздуты штаты?
– Клянусь – ничего! Дело ведь происходит в Древнем Египте.
– Нам-то зачем голову дурить! Знаем мы эти Египты, в которых правят набальзамированные трупы. Намеки весьма прозрачные, – сказал Верещалкин. – Я про кукиш в кармане вчера упомянул, а вы в рассказ фигу вставили… Ловко! Вот ты, Элеонора, скажи, может подобный рассказ пройти через Главлит?
– С утра не может, – зевнула Элеонора. – А после обеда, когда они уже водочки откушают, вполне возможно.
– Следовательно, ты рекомендуешь его к печати?
– Не-е, – покрутила головой Элеонора. – Хватит с нас и одного Вершкова. Да и не люблю я рассказы, где нет ни слова про любовь.
Мало того, что Косте загоняли под лопатку нож! Так этот нож еще продолжали дергать и поворачивать в ране, причиняя все новые и новые страдания.
– А что это у вас такое? – Крестьянкина неожиданно потянулась к стопке «Вымпелов», которую Костя продолжал сжимать под мышкой.
– Так, ерунда… – пробормотал он. – Журнальчик один… Я в нем когда-то печатался.
– Посмотреть можно?
– Пожалуйста. – Он хотел сказать «подавитесь», но сдержался. Лично Крестьянкина ему ничего плохого пока не сделала.
Она тем временем бегло полистала журнал, передала его Чирьякову, а сама потянулась за новым. Скоро все углубились в чтение, тем более что «Вымпелов» хватало. Смелые допризывники, рожденные фантазией Кронштейна, оккупировали страницы восьми номеров подряд.
– Нормально! – захохотал вдруг Чирьяков. – Отменно сказано!
– А ведь и в самом деле ничего… – томно протянула Элеонора. – Забавно.
– Что же вы раньше молчали! – Топтыгин в сердцах даже хлопнул Костю журналом по голове. – Да это же не рассказы, а бриллианты! Школа Самозванцева чистейшей воды! Вот обрадуется старик! Живы наши традиции, живы!
– Поздравляю! – Верещалкин даже снял очки, чтобы получше рассмотреть Костю. – Талант! Сколько здесь рассказов?
– Восемь, – проронил Костя, все еще ощущая под сердцем холод стального лезвия.
– Опубликуем всем циклом! В ближайшем же сборнике…
Вскоре весть о том, что в навозной (или, если хотите, торфяной) куче семинара обнаружен бриллиант чистой воды, облетел Дом литераторов, вернее, те его этажи, где квартировали члены творческого объединения.
К Косте, почти официально названному наследником Самозванцева, потянулись с поздравлениями многочисленные ходоки, очевидно, рассчитывавшие на дармовое угощение. Однако Вершков впускал в номер только избранных. Так был отвергнут экспансивный Хаджиакбаров, заведомо безденежный Лифшиц и всем уже порядочно поднадоевший мученик здорового образа жизни Гофман-Разумов.
– Такую удачу надо отметить! – Вершков вел себя так, словно банкет был необходим лично Косте, а не кому другому. – Так и быть, гони монеты. Сбегаю, пока магазины не закрылись. А ты, наследничек, тем временем готовь тронную речь. Корону мы тебе потом из газеты соорудим.
Костя был до такой степени потрясен свалившимся на него признанием, что безропотно отдал Вершкову все оставшиеся деньги. Едва тот скрылся, как в дверь вновь постучал Гофман-Разумов.
– Тебе чего? – грубо поинтересовался Бубенцов, в отсутствие Вершкова принявший на себя обязанности привратника.
– Вы на ужин пойдете?
– А что дают?
– Шницель с макаронами.
– Нет. – Больше всего на свете сотник-заочник любил маринованную селедку и надеялся, что Вершков не забудет купить ее в качестве закуски.
– Тогда я за ваш стол сяду! – обрадовался Гофман-Разумов.
– Садись, – разрешил Бубенчов. – Только хлеб потом принесешь сюда.
– Сколько кусков?
– Все! – вышел из себя Бубенцов.
Обиженно засопев, Гофман-Разумов ушел в столовую, где собирался расправиться сразу с четырьмя порциями.
Впрочем, очень скоро выяснилось, что шницеля с макаронами ему подарили зря. Вершков, кроме водки, купил только красное бархатное знамя со златотканым портретом вождя и девизом «Победителю соцсоревнования». Такую несущественную мелочь, как закуска, он попросту проигнорировал.
– Флаг-то тебе зачем? – возмутился Бубенцов, хотя и считавшийся белым казаком, однако ко всем символам власти питавший врожденное почтение. – Надеюсь, ты им стол накрывать не собираешься?
– Это уже мое дело, – загадочно ответил Вершков. – Ты тише говори. А то покоя не дадут. Многие видели, как я водку брал…
Действительно, в дверь еще долго стучали разные люди (один раз даже женщина, так и оставшаяся неизвестной). В конце концов незваные гости угомонились, только Хаджиакбаров продолжал расхаживать по коридору, нервно восклицая:
– Какой такой Синдбад! Весь роман прочитал, а Синдбада не нашел! Бластеры – есть! Глайдеры – есть! Лазеры – есть! А Синдбада нет!
– Допек ты человека, – прошептал Вершков, бесшумно разливая водку. – Как бы он не свихнулся. Новая форма маниакально-депрессивного психоза. Синдром Синдбада…
Сначала выпили за новоявленного наследника. Потом за самого Самозванцева. Потом за Синдбада из Багдада. Потом за Верещалкина, на деньги которого, если честно говорить, они сейчас и гуляли. Потом за Элеонору Кишко – отдельно за задок, отдельно за передок. А уж потом пили за все, что угодно…
Попойка происходила в таком головокружительном темпе, что Костя вскоре стал терять ощущение реальности. Сказывалась, конечно, и бессонная ночь, и треволнения последних дней, и почти полное отсутствие закуски.
Один вопрос, правда, засел в его сознании не менее крепко, чем гвоздь-костыль в железнодорожной шпале. Соответствующую фразу пришлось строить очень долго, но в конце концов Костя выдавил из себя:
– Сколько… же я… заработаю?
Вершков быстренько подсчитал совокупный объем всех его рассказов и сообщил итог:
– Тысяч пять или около того. А если пару раз лизнешь задницу Верещалкину и получишь высшую гонорарную категорию, то и все шесть.
– Вере-щалкину… ни-когда! – тщательно выговаривая каждое слово, произнес Костя. – А вот Кать-ку бы… с удовольст-вием…
– Если в этом бардаке, именуемом творческим объединением, и есть что-то святое, так это именно Катькина задница, – строго произнес Вершков. – Не смей касаться ее своим лживым языком, а тем более грязными лапами.
Это высокопарное заявление окончательно добило Костю. Голова его поникла словно у бойца, сраженного вражеской пулей. Друзья освободили Костю от обуви и без всяких церемоний забросили на самую дальнюю от стола койку. Попытка Бубенцова накрыть тело Жмуркина красным стягом была решительно пресечена Вершковым, в голове которого уже зрели свои, как всегда, парадоксальные планы.