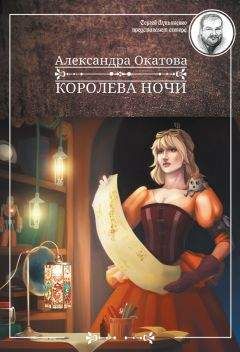Витя осторожно отложил гитару:
– Всё! Мальчики налево, девочки направо и марш по палаткам!
– Ну ещё немного, пожалуйста! Спой ещё, – заныли девчонки. Мальчишки громкими криками и свистом выражали презрение к девчонкам и песням, как разновидностям телячьих нежностей. Когда все разошлись, я всё сидела, оглушённая чувствами. Таня посмотрела на меня: – А ты чего ждёшь?
Я неохотно, нога за ногу пошла к палаткам и тут меня озарило, я резко села на землю и застонала, посмотрела в сторону костра и всхлипнула ещё пару раз, погромче. Витя рысцой направился ко мне: испугался, – удовлетворённо подумала я. Он подбежал и подхватил меня на руки. Я, как взрослая, обняла его за шею. Я почувствовала вдохновение, мне не нужны подсказки, я, будто музыкант, знала, что делать, какую ноту взять: я расслабилась и приложила голову к его шее, макушкой к подбородку. Я слышала его сердце. Или моё?
– Больно? Ногу подвернула?
– Да, – закивала я.
– Сейчас, сейчас! Не плачь!
Если бы я и заплакала, то от счастья! Я опять нарочно всхлипнула, он прижал меня к себе ещё крепче и прибавил шагу, зря я это сделала, так он быстрее отпустит меня, пожалела я, но сделанного не воротишь, у меня есть ещё секунд пятнадцать, мне нестерпимо хотелось поцеловать его, двенадцать секунд: надо только поднять лицо и встретить губами его губы, девять секунд: я вздохнула и – не решилась, пять секунд: Таня отвернулась, не смотрит на нас, через две секунды мы уже будем у костра, если не сейчас, то никогда, я подняла лицо, а Витя не вовремя повернул голову: я мазнула губами по его слегка небритой челюсти и разревелась от разочарования. Он осторожно опустил меня на траву.
– Растяжение, надо перевязать – сказал он Тане, та побежала за бинтами, а он расшнуровал кеды и разглядывал мои лодыжки, пытаясь угадать, какую ногу я подвернула, а мне казалось, я пустая, как будто кончилась энергия. Правая? Я молчала. Он ловко, быстро и туго забинтовал мне ногу и улыбнулся.
Не догадался, – облегчённо подумала я, он хмыкнул, заговорщицки посмотрел мне в глаза и подмигнул. Или догадался?
Третья, самая грустная, моя любимая смена с прохладными, всё раньше наступающими вечерами, со звёздами, внимательно глядящими сквозь чёрные водопады ветвей, заканчивалась. Капали последние мгновения. Детство ослабило объятия, но медлило, не хотело меня отпускать.
Ясное предчувствие конца лета и близкого начала школы.
Несбывшиеся надежды – пустые обещания времени, прошедшего мимо.
Щемящая сладость неосуществлённого мгновения, которое будет со мной всегда.
Мой не случившийся первый поцелуй.
16.02.14
Коля и Ваня жили в тайге.
Они всю свою небольшую жизнь провели в тайге и не знали ничего другого. Мальчики росли как трава, как деревья, такие же свободные, как река, как облака, только Коля сильный, и телом и мыслями, духом, а Ваня никакой, незамутнённый, как ветер над полем, а Коля как гроза, как огонь. А Ваня как воздух, вроде оболочка красивая, а внутри нет ничего, пустота.
Коля старший. На нём вся работа в огороде. Всё, чем они поддерживали жизнь, выращивал на огороде Коля. На нём вся забота о семенах, о посеве, о прополке, о поливе, об уборке того, что выросло, а росло хорошее, доброе, всё ему удавалось и картошка, своя, уже и непонятно, какой сорт был вначале, а сейчас она давала крупные, почти одинаковые круглые румяные клубни сам-десять, ей-богу, не вру: садишь ведро, собираешь десять, с рассыпчатой мякотью, когда достаёшь из печи, и полопавшейся тонкой шкуркой.
Коля даже не замечал трудностей своей работы, он делал её так же как жил, просто и не задумываясь, с привычной легкой не замороченной тяжестью, торс за лето приобретал бронзовый оттенок, особенно спина, плечи. Руки крепкие и мускулистые с ногтями, обведёнными чёрным контуром, грубые. Он родился лет пятнадцать назад.
Ваня младше него на два года. Ване как воздушному и лёгкому досталась работа как песня, как ветерок. Ходи, гоняй скот, от скуки вырежи дудочку и лежи себе под деревом в тени, смотри на вечный шорох-морок зелени на фоне неба, спи в тенёчке до вечера, а вечером домой, а и не устал, как Коля, всё равно, что мечтал-отдыхал. И был он как девушка, нежный, стройный, тонкий, звонкий, гибкий как прутик.
Что такое год, они понимали весьма приблизительно. Им было всё равно, сколько им лет. Время для них всего лишь очередная смена сезонов, год-не-год, какая разница? Они считали летами. Ваня провёл тринадцать лет. Коля пятнадцать, на два горячих светлых чистых лета больше. Коля всегда опекал Ваню и считал его маленьким, глупым: всё-таки на два лета он старше него, видел на два лета больше и на два лета лучше понимал. А Ваня такой маленький, ещё глупый, за ним глаз да глаз: то в реку по осени упадет и потом лежит, болеет, то ногу подвернёт. Мать ему травы заваривает, хотя, они всё время заваривают травы, без разницы, болеешь ты или нет, всё равно они пьют травы.
Это мать иногда говорит отцу:
– Ты помнишь, какой был вкусный чай, три слона.
– Да, – молча кивает он, и ещё раз кивает, – помню.
А для Коли с Ваней иван-чай это и есть чай, они другого не знают, а не знаешь другого, так и не страдаешь по нему, по другому чаю, то есть. А мать знает, помнит и страдает из-за этого. Коля видит, как мать иногда смотрит куда– то внутрь себя, а вокруг ничего не видит. Встанет посреди двора, как будто забыла, куда шла, и стоит с невидящим взглядом, и не слышит, когда они с Ваней её окликают, потом вдруг очнется, посмотрит вокруг, как только что проснулась и не может отличить явь ото сна, и медленно так приходит в себя и взгляд её гаснет как свеча, при которой вечером отец читает Ване и Коле толстую с замусоленными углами в кожаном переплёте Библию.
Мать в это время хлопочет по хозяйству, на столе уже нет остатков ужина, там только свеча и книга. И отец, от которого только и можно услышать слово, когда он читает.
И мать, и отец считали его, Колю, уже взрослым, вполне человеком, а Ваню – нет, он был как придаток отца, несамостоятельный, не такой, как Коля. Мать так и говорила про Колю: человек, а про красавца Ваню ничего такого не говорила.
Так бы они и жили как трава, как цвет полевой, в своей тайге и слушали, как отец читает библию по вечерам при свете свечи, если бы не случай. Отец вернулся с охоты хмурый, не-тронь-меня, с тёмным, злым, обеспокоенным лицом и притихшим ребятам строго-настрого запретил ходить в тайгу.
Ночью Коля, который обычно спал в комнате, за перегородкой, а в эту ночь не заснул, почувствовал что-то тревожное, как надвигающуюся непогоду, душа ныла сильнее, чем натруженные руки, и слышал, как отец что-то зло выговаривал матери, а та только плакала, спрятав лицо в руку, она походила на человека, у которого нет выхода, на загнанного в угол зверя. Коле было жаль её, но он ничего не понимал и поэтому не мог позволить себе вмешаться, только слушал.