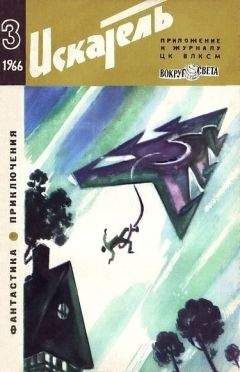– Не студи помещение, дьявол! – заорал совершенно вне себя сапожник, в два прыжка настиг Антошина, – схватил его (совсем как тот старик) левой рукой, а правой, в которой тускло поблескивал лаком новенький ботинок, замахнулся, но от удара все же удержался: как бы не испортить заказную вещь. – Ты что? Ты куда снова собрался?.. Тебе что здесь, гостиница «Славянский базар»?.. Захотел – пришел, захотел – ушел? А?.. Валенки! – заскрипел он зубами. – Ты почему с валенок снег не сбиваешь? Мне тебе, что ли, веник подавать?!
– Какие валенки? – с отвращением отвечал Антошин, отталкивая разбушевавшегося сапожника, и вдруг окаменел: вместо добротных коричневых туфель на толстой каучуковой подошве на его ногах болтались не по ноге просторные старые, подшитые валенки. Вместо пальто на нем благоухал прелой овчиной старый-престарый, весь в заплатах полушубок. Вместо выходного темно-коричневого костюма, в котором он собирался встречать с Галкой Бредихиной старый Новый год, вместо белоснежной нейлоновой сорочки с модным полосатым галстуком, на нем висели несусветные отрепья: старая заплатанная-перезаплатанная розовая ситцевая рубаха, подпоясанная каким-то шнурком с кисточками, пестрядинные штаны, сшитые много лет назад на куда более плотного мужчину… Значит, его каким-то образом успели раздеть и переодеть в эту рвань, пока он дремал там, на лавочке. А ему спросонок казалось, что его только дергают и теребят за плечо… Одежда и туфли что? Это все дело наживное. А вот как он сейчас вернется в таком виде домой? Как он покажется на глаза лифтерше, не говоря уже о родиых?..
Пока Антошин приходил в себя от этого страшного удара, рыжеусый сволок его со ступенек и прижал к стене:
– Где ты пропадал, я тебя спрашиваю? Фрося с ног сбилась, искала, думала, ты уже где-нибудь убитый валяешься… Ты что в Москву гулять приехал? – Из-за полога показалась девушка лет девятнадцати. Худенькая, с миловидным, тонким и каким-то виноватым лицом. Одета она была, как если бы ее нарядили для киносъемки, – в старомодной дешевенькой шляпке со смешно болтавшейся веточкой вишенок и старенькие ботинки на пуговках и старо-, даже не старо-, а древнемодный сак с буфами на плечах.
– Я пошла, Ефросинья Авксентьевна, – сказала она показавшейся ей вслед жене сапожника. – До свиданьица вам, Степан Кузьмич. – Иди, Дуся с богом, ласково, с оттенком собалезнования отвечала ей Ефросинья Авксентьевна. – Ты, милая, завтра снова приходи. Ты не стесняйся.
Степану Куэьмичу было не до Дуси. Ой ей только дружелюбно мотнул головой и снова принялся за Антошина:
– Киятры мне здесь разводить собираешься, а? А госпоже Зубакиной через два часа на гастроли уезжать в чулочках или… или в валенках?. Мысль о том, что некая Зубакина уезжает на гастроли в валенках, привела сапожника в веселое настроение. Он поостыл и уже почти незлобиво продолжал:
– Мне, брат, нахлебников не требуется. Пока ты на работу не стал, помогай. Чем можешь помогай или катись на все четыре сторрны!
– Госпоже Зубакиной? – машинально переспросил Антошин, больше думая о том, как он в таком виде заявится домой. – То есть как это госпоже Зубакиной?..
– Забыл? Может, для тебя госпожи Зубакиной мало? Может, тебе, таракан запечный, государыню императрицу подать?
Он завернул в тряпицу тот ботинок, которым только что чуть было не ударил Антошина, и еще один ботинок сунул в руки ошеломленно Антошина, который чувствовал себя, как в дурном сне. – И чтобы одна нога здесь, а другая там!.. Значит, двигай прямо в меблирашки. Только не с парадного, а то с тебя станется. Взойдешь с черного хода на второй этаж и спросишь у горницной, где тут помещается госпожа Зубакина. Постучишься, только аккуратненько, со всей деликатностью. Понял? И скажи, хозяин, мол, не велел без денег ворочаться. Мол, хозяин меня убьет, ежели я без денег вернусь. Хозяину, мол, завтра с утра за квартиру платить. Понял?. Нет, ты мне подтверди что понял!
– Понял, – пробормотал Антошин, не очень понимая, чего от него хотят.
– Ну, вот и хорошо, что понял, – уже совсем миролюбиво заметил сапожник. С нее получить восемь рублей семьдесят пять копеек. Даст девять твое счастье. Получишь с того лишнего четвертака гривенник. Только я очень сомневаюсь, чтобы она дала четвертак на чай. Скупа баба! Это при таких заработках, а жила, форменная жила. Главное, она будет сулиться потом рассчитаться за штиблеты, а ты ей одно: «Хозяин не велел без денег ворочаться»
– Это кто хозяин? – дошло наконец до Антошина.
– Кто хозяин, кто хозяин! – снова вспыхнул сапожник. – Я хозяин. Вот как дам тебе в рыло!..
Он собирался вылить на недоуменно оглядывавшегося Антошина новый поток оскорблений, но Ефросинья лениво, чувствуя свою власть над мужем, остановила его:
– Не трожь его, Степан Кузьмич. Парень третий день: из деревни. Темный. Не приобык еще. – Так ведь я, Фросечка, не: двужильный – снова притих сапожник. У меня ведь тоже имеется нервная система. У людей Новый год, а ты ковыряйся шилом да постукивай молоточком, ковыряйся да постукивай…
Он обернулся к Антошину и неожидано улыбнулся, Он был отходчив:
– Значит, одна нога здесь, а вторая у госпожи Зубакиной. И все, что я тебе сказывал, все исполни… Ты ведь не дурной какой-нибудь… Ты, может, даже и совсем умный…
Если тебя хорошенечко поскоблить, а потом навощит и отполировать…
– Одну минуточку, – сказал Антошин, – одну минуточку! Он вернул потрясенному его наглостью сапожнику узелок с ботинками, подошел к верстаку, возле которого на почерневшей от копоти и грязи стене висел отрывной календарь с одним-единственным листком. Осторожно, чтобы с непривычки не наделать пожару, он подтянул лампу к этому листочку.
– Скажите пожалуйста, – насмешливо протянул сапожник, – ну совсем – как грамотный!.. Ты, может, часом грамотный? Так ты прямо и говори: я грамотный.
Шурка за пологом фыркнула.
– Грамотный, – ответил рассеянно Антошин. Голос его прозвучал, так глухо, точно он сам себе выносил тяжкий приговор.
Степан, воспринял ответ Антошина так, как если бы тот сказал, что он только что с Луны.
– А ты прочитай, что тут, написано, если ты грамотный!.. Ох и здоров же ты, Егор, врать!
– Врать грех! Врать грех! – крикнула из-за полога Шурка. – Как не стыдно! Вот тебя боженька за э…
Послышался шлепок по голому месту, и девчонка за молкла на полуслове. А Антошин медленно, по слогам, словно он только что научился грамоте, прочел:
– «Тысяча воеемьсот девяносто третий год… – Он остановился и с трудом перевел дыхание. – 31 декабря. Пятница… Тысяча восемьсот девяносто третий год! – воскликнул он, потрясенный. – Я, кажется, сошел с ума!
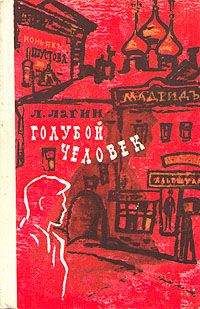
![Владимир Михайлов - Восточный конвой [ Ночь черного хрусталя. Восточный конвой]](https://cdn.my-library.info/books/67336/67336.jpg)