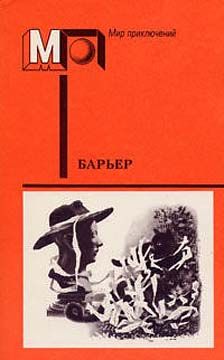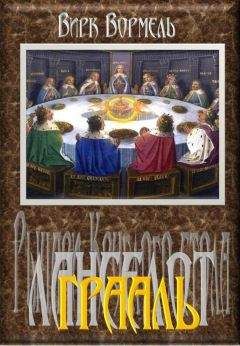Неожиданный исход сражения заставил несколько призадуматься противников Ланселота; они пришли к выводу, что сэр Дезимор был чересчур гуманен, поэтому решительней атаковали юнца и — поскольку решимость всегда приносит более сочные плоды — грохались наземь так, что содрогалась не только королевская ложа, не только Гиневра, зрелой красою блиставшая королева, но вздрагивала и ухоженная борода Артура.
Вот тут-то и случился в турнире поворот, ибо остальные восемь рыцарей, коим еще только предстояло биться, лишили своего благоволения этого глупца Ланселота, которому, видите ли, требовалась непременно победа, и, рассвирепев, сговорились: симпатия симпатией, королевское предупреждение предупреждением, но они растопчут зазнавшегося мальчишку. И одна лишь преграда помешала исполниться этому сговору — сам Ланселот: теперь, заслышав звук рога, он все яростней мчался вперед на проклятущем своем длинногривом черном жеребце, который словно бы усмехался злобно прямо в глаза выезжавшему навстречу герою и его верному боевому товарищу — доброму коню. И каждый рыцарь выбирал все новый вид оружия. Сэр Саграмор — он-то был еще довольно мирно настроен, памятуя о минувших славных деньках, — предложил относительно безобидную булаву. И получил ее — удар был так силен, что оглушил даже его вороного коня. Сэр Кэй, который уже не считался ни с чем и во имя престижа рыцарского яростно жаждал изничтожить Ланселота, выбрал секиру. Неудачный выбор сделал сей храбрый рыцарь.
И вновь автор хроники, много повидавший на свете и многому наученный, испрашивает разрешения сказать от себя несколько слов: глубоко им чтимый образ сэра Кэя, важность минуты настоятельно того требуют. Сэр Кэй был могучий боец, всяким оружием владевший не зная себе равных, и никто до сих пор — кроме сэра Галахада — не мог его победить. С Ланселотом он решил биться секирою, ибо оружием сим владел как никто и без труда отражал им все удары, когда же сам наносил удар… он был из тех воителей, про каких говорят: «Сколько ударов — столько смертей». А так как и Галахад победил его не на поле боя, а в рыцарском поединке, заканчиваемом, как только подымается рука побежденного, то до самого этого дня и не довелось сэру Кэю изведать страх смерти. Теперь же увидел он поганый лик его.
Как требовал освященный временем обычай, с противоположных сторон ристалища ввели лошадей, сэра Кэя и Ланселота, потом вышли и сели в седла сами рыцари. Обоим — единовременно — протянули, подали секиры, и тут проклятущий конь этого недоучки Ланселота ощерился ухмылкою и коротко заржал. Ланселот, приняв в правую руку сверкнувшую на солнце секиру, прежде столь ему милую, наклонил голову в шлеме, что-то сказал коню своему и застыл в ожидании рога. И вдруг почуял сэр Кэй, что тот, кто вышел сейчас против него, держа столь любезную и ему в обычное время секиру в охваченной перчаткой руке, — что он, там стоящий, готовится к самому ужасному: хочет его, сэра Кэя, победить, а если не дастся он, то и убить. «Покуда наши болваны успеют вступиться… — бормотал сэр Кэй про себя. — Он же решил победить, этот щенок, победить любою ценой!»
И тогда охватил его страх, и тогда-то прозвучал рог.
Ланселот — хотя такого не было в обычае и не предписывалось правилами — крикнул громко коню своему, секирой указывая на сэра Кэя: «В атаку! Сбей его!» — и черный жеребец, словно невиданная, небывалая галера, рванулся через поле, по самые бабки уходя в песок, до самой холки сокрывшись во избитой пыли.
«Это сам Вельзевул, он убьет меня!» Сэр Кэй не пошевельнулся, даже не дал шпоры коню. Артур смотрел, ничего не понимая, а Гиневра, зрелой красой блиставшая королева, поднялась и вскричала:
— Я знала, верила, Ланселот!
Ланселот прижал сэра Кэя к барьеру, кони сошлись вплотную, тесня друг друга у трещавшей ограды, но сэр Кэй лишь однажды приподнял дрогнувшей рукой свое оружие, и лишь один Ланселот услышал его слова:
— Не убивай!
Да только секира Ланселота в этот миг уже взвилась над его головой, и одной только силе Ланселотовой — истинно говорю — обязан был жизнью славный рыцарь сэр Кэй, потому что хоть и не мог Ланселот остановить свистящий, неудержимый, ужасный топор свой, он все же сумел в последний миг повернуть его так, что удар пришелся сэру Кэю в плечо, и он, в полном сознании, счастливый тем, что все же остался в живых, рухнул наземь.
Вот как это было, только и всего. Оставалось еще три рыцаря, но тут случилось беспримерное: они уклонились от вызова, отказались от боя. И читатель сей хроники, верно, уже ожидает рассказа о том, как Ланселота тотчас, с места не сходя, посвятили в рыцари, Артур его благословил, и все дружно запели. Ан танец этот по-иному танцуют. Слишком уж быстро молодой дворянин, которого то ли придворные дамы, то ли простые дворяне прозвали Победоносным Ланселотом, — да, слишком быстро объявил он, на что способен и тотчас (дурость неслыханная!) подтвердил слово делом; слишком явно одержал он победу над великими «избранными», над «помазанными», а потому и было решено (всеми решено, ибо никого тут по имени и не назовешь), коль не удалось победить его в честном бою, то уж языком, речами коварными будет он побежден непременно. Впрочем, и да послужит сие к их оправданию, надеялись рыцари, что и того не понадобится, потому что вот-вот вернется рыцарь без страха и упрека — знаменитый Галахад, и уж он-то сумеет достойно привести в чувство юного дуралея, пожелавшего одним махом вознестись над всеми и с беспрецедентной наглостью сумевшего сие совершить.
Имя Галахада в этой хронике уже поминалось, и коль скоро цель моя — поведать обо всем правдиво и точно, то и должен я сейчас поведать о нем! Делаю это с радостью, ибо сэр Галахад такой человек, о котором с охотою вспомнит тот, кто любил его… Да и стоит, я думаю, услышать о нем эти несколько слов, ведь пишет их человек, который вправе сказать: я его знаю!
Тот, кто был знаком с ним неблизко, кто помнит только внешность его, навряд ли понимает, за что его называли Безупречным. Галахад не был красивым мужчиной, в статности, например, он уступал Ланселоту, удачливому сыну природы и жизни. Что же, судьба не всегда справедлива, она своевольно распределяет дары свои. Но переступим уж через самое трудное: облик Галахада вселял к нему почтение, однако лишь в глазах истинных воинов. Зато неженки-весельчаки, сотворенные для болтовни и любовных утех, над ним бывало и потешались — за его спиной, разумеется, — а прекрасные дамы держались с ним уважительно, однако же с какой-то затаенной усмешкой; испытывая странное щекочущее наслаждение при виде его, они усмехались и как будто себя же стыдились. Правда и то, что они видели его редко, ибо ничем не томился так Галахад, как игривым духом двора, веявшим вокруг прекрасной Гиневры. Он почитал пустой дурью самое учреждение Круглого стола и — хотя его рыцарей, каждого по отдельности, до некоторой степени уважал — за эту затею честил их болванами, называл пустобрехами и трусами, впрочем, говорил такое с оглядкою и лишь при таких людях, про которых твердо знал, что сплетня с их языка не сойдет. Таился же сэр Галахад потому, что, припечатай он эдак блистательное собрание в открытую, пришлось бы рыцарям Круглого стола вызвать его на смертный бой, а ему, из самозащиты, перерезать их всех, словно кур. Вот он и «глумился, сплетничал» за их спиной — рыцари же утешались тем, что не обязаны прислушиваться к молве. Сэр Галахад презирал их почти так же, как Ланселот, но он-то был дворянин родовитый, а этим многое сказано!