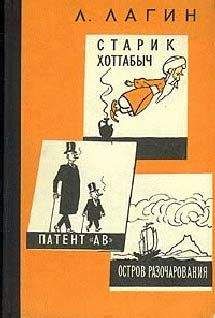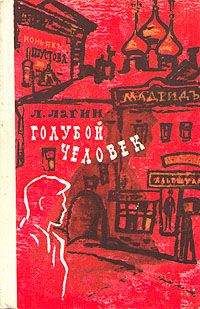Не заходя домой, он завернул в «Два чемпиона». Дело было в четвертом часу — самое мертвое время для ресторана в таком городке, как Пелеп, где считалось почти неприличным обедать вне дома. Можно себе поэтому представить удивление Магарафа, когда он обнаружил, что ресторан переполнен. Кроме обычных посетителей, здесь были горожане, слишком бедные или, наоборот, слишком богатые, чтобы проводить время в «Двух чемпионах».
Налево от нарядной стойки, блестевшей мрамором и никелем, виднелся не менее нарядный, на четыре беговые дорожки, формикоидеадром, монументальный, как языческий жертвенник.
«Так вот почему такое стечение народа! — подумал Магараф, не на шутку оглушенный галдежом, стоявшем в ресторане. — Ну, и размах у этого Циммарона: отхватил себе формикоидеадромище миллионерского образца!»
Экс-чемпион уже бежал ему навстречу, широко раскрыв богатырские объятия.
— Томазо! Дружище!
Они расцеловались, от полноты чувств похлопывая друг друга по спине. Их окружили посетители и стали пожимать руку Магарафу с силой и искренностью простодушных и благожелательных провинциалов, гордых знакомством с таким прославленным человеком.
Неизвестно, сколько продолжался бы взаимный обмен любезностями, если бы Эуген Циммарон с обычной своей бесцеремонностью не прервал его, воскликнув:
— Господа! Вот кто может нам многое сообщить! Человек ехал сюда чуть ли не через всю страну! Пусть он расскажет, что по этому поводу говорят в других местах!
Предложение Циммарона встретило бурную поддержку.
— Позвольте, позвольте! — улыбаясь, замахал руками Магараф. — О чем это вам так экстренно требуется мое мнение? Скажите толком.
— То есть, как это о чем? — выпучил на Магарафа глаза его компаньон. — О деле Попфа и Анейро, вот о чем!
— Какого Попфа? — Магарафу вдруг пришло в голову, что кто-то привлек к судебной ответственности скрипача, выдавшего себя за него. — Скрипача?
— Какой там к черту скрипач! — вспылил Циммарон. Его добродушное, толстое лицо налилось кровью и стало багровым, как спелый помидор. — Я говорю о докторе Стифене Попфе из того самого Бакбука, куда ты в сентябре ехал, но не доехал.
— О докторе Стифене Попфе? — встрепенулся Магараф. — А… а в чем его обвиняют?
— Тьфу, черт! — свирепо проговорил Циммарон. — Да ты с луны, что ли, свалился? Его уже обвинили и осудили. На, читай!..
И он протянул Магарафу ворох газет.
— Я… я все время проболел, — виновато пробормотал Магараф. — Мне не давали ничего читать… А всю дорогу я проспал, как сурок… Я очень ослаб… Лучше я сяду.
Ему пододвинули стул, и он, так и не сняв с себя пальто, стал лихорадочно просматривать газеты.
— Тут хватит чтения на два дня, — сказал ему неугомонный Циммарон. — Ты посмотри пока только вот эту и эту. — И он выбрал из вороха две газеты.
«Аржантейский курьер» от двадцать шестого февраля открывался жирным аншлагом:
БАКБУКСКИЕ УБИЙЦЫ ПРИГОВОРЕНЫ К СМЕРТИ
Магараф пробежал глазами формулу приговора, стенограмму обвинительной речи господина Паппула, несколько статей, написанных с хорошо оплаченным негодованием и призывавших граждан Аржантейи раз и навсегда сделать надлежащие выводы из мученической смерти кроткого бакбукского юноши Манхема Бероиме.
«Можем ли мы быть спокойны за жизнь наших сыновей и дочерей, за собственные наши жизни, за нашу культуру, пока на свободе ходят люди, подобные бакбукским убийцам, пока люди, придерживающиеся варварских убеждений, осмеливаются не только высказывать их вслух, но и претендуют на посылку своих главарей и теоретиков в святая святых нашей великой демократии — в палату депутатов и муниципальные советы? Нет, нет и еще раз нет!»
Так энергично заканчивалась наименее кровожадная из этих статей.
— Это в высшей степени неожиданно для меня! — растерянно промолвил Магараф, оторвавшись от листа, с которого на него смотрели сквозь железную клетку доктор Попф и неизвестный ему человек по фамилии Анейро. — Я никак не могу поверить, чтобы доктор Попф был способен на убийство… Это добродушнейший человек, бескорыстный, веселый, простецкий… И большой ученый!.. Он беседовал со мной, как с ровней, ну вот как ты, например…
— Ты лично беседовал с доктором Попфом? — восхищенно переспросил Эуген Циммарон и, получив утвердительный ответ, загремел на весь ресторан: — Господа, вы слышали? Господин Магараф лично знаком с доктором Попфом!
— Погоди! Погоди! — досадливо остановил его Магараф. — Дай мне досмотреть другую газету.
Это была «Центральная ежедневная почта» от двадцать восьмого февраля. Первую ее полосу открывали набранные крупными буквами аншлаги:
КОРНЕЛИЙ ЭДУФ СЧИТАЕТ СУД НАД ПОПФОМ
И АНЕЙРО НЕДОСТОЙНОЙ КОМЕДИЕЙ
— Весь бакбукский процесс — чудовищный конгломерат предвзятости и нарушений основ процессуального кодекса, — заявляет Корнелий Эдуф. — Доктор Попф и Санхо Анейро виноваты в смерти Манхема Бероиме не больше, чем тибетский далай-лама.
«Корнелий Эдуф вступился за доктора Попфа!» — От этой мысли Магарафу стало чуть легче на душе. Если и был в Аржантейе человек, который мог вырвать из цепких рук аржантейского правосудия невинную жертву, то это, конечно, Корнелий Эдуф.
Не было аржантейца, читающего газеты, который не знал бы этого имени.
Были в Аржантейе адвокаты более модные, представительные и красноречивые, но не было другого представителя этой профессии, которого бы одна (и значительно большая) часть населения так же горячо любила, как ненавидела другая. Он был очень талантлив, очень умен.
По своему уму и знаниям Эдуф мог бы без труда стать юрисконсультом любого крупнейшего концерна, выдающимся парламентарием, министром. Во всяком случае, он мог быть очень богат, а был чуть зажиточней церковной крысы. Коренастый, черноглазый шатен, не очень ладно, но крепко сколоченный, упорный, решительный, остроумный, а если требовалось — язвительный, он умел работать за десятерых, когда дело касалось справедливости. Он знал законы с такой глубиной, тонкостью и точностью, которая выводила из себя официальных блюстителей закона и спасала от тюрьмы, каторги и смерти не один десяток узников, которые, казалось, были обречены.
О нем ходили легенды. Одни говорили, что он побочный сын какого-то финансового магната, обойден в наследстве и поэтому мстит всем капиталистам Аржантейи. Другие клялись, что его родители — когда-то именитые негоцианты — были в один далеко не прекрасный день разорены кем-то из пресловутой Шестерки. Третьи вели его род от знаменитой актрисы, потрясавшей лет тридцать тому назад сердца аржантейских театралов блистательным исполнением трагических ролей и умершей в расцвете сил от неизвестной причины. Четвертые уверяли, что он сын рабочего-сталевара, который заживо сгорел, свалившись в кипящую сталь. На самом деле он происходил из довольно благополучной семьи мелкого провинциального адвоката, здравствующего и поныне. Корнелий Эдуф учился на юридическом факультете не очень привилегированного, но и не очень демократического университета, был далек от политики, увлекался футболом, был одним из университетских чемпионов по теннису и отлично, но без блеска окончил курс наук. Его юридическая карьера началась в Тресте восточных цементных заводов, куда его по личной аттестации ректора университета приняли на должность юрисконсульта. Поступая на эту работу, он не имел и приблизительного представления о том, какую роль придется ему выполнять в конфликтах между рабочими и хозяевами. Несправедливости, с которыми ему сразу пришлось столкнуться, возмутили молодого Эдуфа, и на первом же процессе, на котором он выступил в качестве официального защитника интересов фирмы, он совершил поступок, неслыханный в практике аржантейских юрисконсультов: вместо того чтобы оспаривать, он, наоборот, горячо поддержал законные требования рабочих. Его, конечно, с треском выгнали с работы, но он, опередив дирекцию, успел подать мотивированное заявление об отставке и в копиях разослал его всем центральным газетам. Это была фантастическая смесь пылкого и необузданного юношеского негодования и вполне зрелого, всесторонне обоснованного экономического и юридического анализа беззаконий, творимых Трестом восточных цементных заводов в отношении заработной платы и охраны труда.