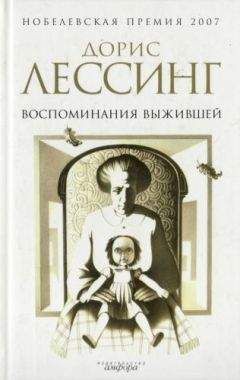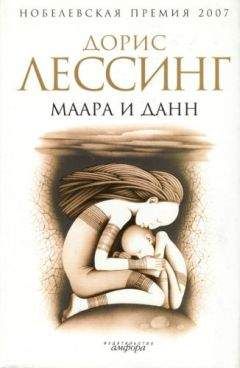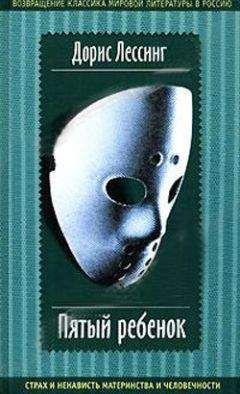Время было позднее, кое-кто уже растянулся на мостовой, подложив под голову свитер или согнутую руку, не обращая внимания на шум. Люди спали, зная, что никто на них не наступит, никто их не пнет, не ударит. Они ощущали себя в безопасности, под защитой своего сообщества. Однако общий сон с отбоем и подъемом распорядком дня здесь явно не предусматривался. Костер догорел, надвигался рассвет. Наступило утро, пришло время двигаться дальше. Я опасалась, не отправится ли Эмили с ними, однако после шумных объятий, смахивавших на сценические прощания местных проституток с солдатами проходящих полков, она пробежала лишь пару ярдов вслед за уходящий толпой и медленно поплелась обратно. Не ко мне, к Хуго. В квартире появилось размытое печальное пятно ее лица, вовсе не детского, но, дойдя до большой комнаты, Эмили уже напялила маску.
— Прелестный вечерок, что бы вы ни говорили, — небрежно обронила она.
Я вообще ничего не говорила и не собиралась ничего говорить или комментировать.
— Если не считать, что они людоеды, вполне приличная публика, — добавила девочка, зевнув. — Я, правда, не спросила, но уверена, что они должны есть людей!
Она открыла дверь в свою спальню, выпустила Хуго и, встретившись с ним взглядом, сказала зверю:
— И ничего неприличного я себе не позволила, клянусь! — Хохотнув, она бросила через плечо: — А с ними интересно. Может, надо было составить им компанию.
Что ж, лучше так, чем обычная процедура прощания с возгласом в десять вечера: «О, мне пора в постельку» — и дежурным чмоком в щеку, напоминающим прикосновение гипотетических белых перчаток профессора Уайта.
За первой ордой переселенцев потянулись другие, чуть ли не каждый день прибывала новая группа, разводила костер на мостовой, выманивала из дому Эмили. Меня она не спрашивала, я ей не запрещала, зная, что девочка все равно не обратит внимания на мое мнение. Кто я для нее? Чужая тетя. Я не хотела конфронтации. Эмили подходила к каждому костру, дважды вернулась пьяной, однажды с разорванной юбкой и синяками засосов на шее. Икнув, она промямлила заплетающимся языком, что девственности, вопреки моим опасениям, не утратила, хотя была близка к этому.
— Хотя какая разница? — добавила она, хмыкнув.
— Большая разница, — мрачно заметила я.
— В-вы так считаете? Хм… Оптимистично… Или как это называется… Что ты думаешь, Хуго?
Поток мигрантов наконец иссяк. От них остались прожженная кострами мостовая, кучи и россыпи мусора, битой посуды, обожженные нижние ветви платанов. Откуда ни возьмись материализовалась полиция, принялась активно опрашивать очевидцев, фотографировать следы великого переселения. Затем муниципальные службы приступили к уборке и заделыванию дыр. Жизнь вернулась в нормальную колею, на первых этажах по вечерам снова светились окна.
Примерно тогда я поняла, что действо на мостовой перед домом и то, что происходило между мной и Эмили, как-то связано с моими визитами сквозь… или за стену. За стеной, за многими стенами, спокойными, белыми, тихими, зыбкими, как театральные задники, вглядываясь, заглядывая в постоянно возникающие дверные проемы, я обнаружила длинную комнату с глубоким потолком, когда-то прекрасную, сияющую. Я узнала эту увиденную впервые комнату и ужаснулась ее состоянию. Она как будто подверглась набегу дикарей. Или в ней ночевали солдаты. Обивка мебели пропорота штыками или ножами, парчовые шторы изодраны в клочья, везде обломки и осколки. Здесь резали кур или еще какую-то живность, на полу перья, на стенах брызги крови, воняет падалью. Я приступила к уборке. Ведрами таскала горячую воду, мыла, скребла, чинила… Распахнула высокие окна, выходящие в сад середины восемнадцатого века: геометрически правильный, с боскетами и рабатками, с цветниками, окаймленными подстриженным кустарником. Я впустила в помещение солнце и ветер, и они справились с беспорядком. Сознавая себя все это время, я одновременно ощущала отсутствие контакта с реальностью. Но вот диваны и кресла восстановлены, шторы сложены для отправки в чистку. Я расхаживаю по просторной комнате, задерживаюсь возле окон, любуюсь розами, вдыхаю аромат лаванды, вербены, ощущаю уколы памяти, муки совести и тяжесть клеветы. «Реальная» жизнь жжет кострами на мостовой, опаленными ветками платанов, тянущимися в эту комнату. В другую сторону тянет ностальгия самой комнаты, жизнь, прожитая здесь, которая не прекратится и после того, как я вернусь за стену. И Сад, в котором мне знаком каждый уголок. Но прежде всего невидимый жилец этого дома; он, разумеется, появится сразу же после моего ухода и одобрительно кивнет, оценивая мой труд. И выйдет в сад. Конечно же выйдет в сад.
Тут же смена декораций, а главное — смена атмосферы. Первое из моих «личных» впечатлений. С самого начала я заклеймила их «личными». И атмосфера всегда оставалась уникальной, в каких бы условиях я ее ни обнаруживала. То есть между ощущением текстуры настроения сцен не «личного» характера — к примеру, обезображенной вторжением комнаты, иных, чаще всего сложных и обескураживающих ситуаций в том или ином антураже, — так вот между ними и «личными» сценами — пропасть. «Личные» (не обязательно мои) и «неличные» существуют в разных сферах различного качества, причем сферах разделенных. «Личные» мгновенно распознаются по атмосфере, в которую они заключены, как в тюремную камеру, по эмоциям, что эту атмосферу населяют. «Неличные» — но не «безличные» — несут с собой проблемы, требующие решений, действий — например, уборка и ремонт в разгромленной комнате, — однако сопряжены с какой-то легкостью, свободой, ощущением возможности. Да, возможности, наличием альтернативы. Можно отказаться от ремонта мебели, расчистки участка земли, можно вообще не входить в эту комнату, выбрать иной маршрут. Но, войдя в «личное», вступаешь в тюрьму, в которой действует безальтернативность, пространство ограничено, а главное — неумолимо действуют законы времени, где оно отсекается отрезками, минута за минутой — отсчитанные, скалькулированные промежутки.
Еще одна просторная комната, с высокими потолками, но квадратная; окна хоть и высокие, но громоздко-тяжкие, с тяжелыми шторами темно-красного бархата. В камине огонь, перед огнем неуклюжий мощный проволочный экран, похожий на овальное блюдо. На экран беспорядочно набросаны для просушки старомодные детские пеленки, белые слюнявчики и подгузнички, платья и платьица, кофточки, жакетики, носочки. Какое-то приданое новорожденного эпохи Эдуардов; еще не тлеет, но близко к тому. Рядом с камином лошадка-качалка. Азбука. Колыбелька с оборочками; белый муслин в меленький синий и зеленый цветочек. Белый цвет я восприняла с облегчением. Все здесь белое: стены, окна, драпировки, одежда, колыбелька. Маленькие белые часики, такие в каталогах обычно рекомендуют для детских. И тикают они как-то по-белому: тихо, неразборчиво и непрерывно.