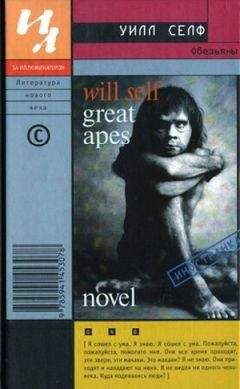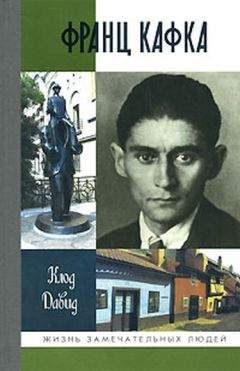Но так было не всегда. Еще недавно легкая непринужденность «компашки» не передавалась Саре, она была готова сквозь землю провалиться от ужаса и стыда за то, что не может вести себя на людях естественно. Всего… полгода назад? Да, всего полгода назад этот ранний вечер в клубе, эта прелюдия к моменту, когда она потеряет контроль над своим детским еще телом, были для нее как рвотное; еще полгода назад в такие минуты она испытывала к себе ни с чем не сравнимое отвращение. Теперь же они получили совершенно иную окраску — благодаря Саймону. Точнее, благодаря его телу.
Если Сара сосредоточивалась, отключалась от шума, закрывала глаза, отсекала от себя блеск бокалов, зеркал, оправ, то могла вообразить себе приближение его тела, представить его себе как что-то материальное, с низким гулом направляющееся к ней сквозь ночные тени. Не тело, а эскадрилья, сомкнутый строй бомбардировщиков — ключицы, грудная клетка, таз, пенис. Ноги, икры, бедра, пенис. Руки, плечи, локти, пенис. «Сара любит пенис Саймона». Надо нацарапать эту фразу на стойке шляпной булавкой, подумала Сара, это так романтично.
Щетина на шее, плавно переходящая в нежные волосы на животе; длинные, твердые мышцы, словно гибкие железные прутья. Удивительная, необычная мягкость его бледной кожи. Кожи подростка, кожи, которая всегда будет чувственной, всегда будет жаждать прикосновения. Кожи, которая пахла только им, как бы сваренным в этом туго завязанном кожаном мешке. Ей хотелось проткнуть его кожу, чтобы он излился в нее. При одной этой мысли Сара изо всех сил сжимала бедра, желала, чтобы он уже был здесь. И как ей только в голову взбрело тащить Саймона сегодня вечером в «Силинк»! Что они вообще тут забыли? По правде сказать, ничего. С гораздо, с гораздо большим удовольствием она осталась бы дома, чтобы он мог взять ее и снять с нее кожу, слой за слоем, слой за слоем, слой за слоем. Да уж, он умел ее завести, пронзить ее трепещущее сердце таким электрическим разрядом, что она только и делала, что кончала, кончала, кончала, а каждый следующий безумный оргазм оказывался еще головокружительнее предыдущего.
Так почему же они ходили в клубы? Почему принимали наркотики? Потому что это было сильнее их, потому что Сара чувствовала — то, что происходит с ними, то, чего им удается достичь, будет лишь атрофироваться, а не усиливаться от частого повторения. Это было что-то такое, что они рискуют утратить, если будут стараться удержать. Сара не читала Ликурга, но если бы открыла его, то поразилась бы красоте спартанского закона о браке. В Спарте не было наказаний за супружескую измену, но горе тому, кого заставали с собственной женой: в этом случае обоих лишали жизни. Это наполняло супружеские отношения чувством опасности, делало их запретными, по-настоящему сексуальными. Вот и в случае Сары и Саймона — клуб «Силинк» и наркотики были для них этой необходимой лакуной, воплощали для них Лаконию.[20]
Но не только наркотики. Помогали и бывшая жена Саймона, и его многочисленные экс-подружки. Много-много-многочисленные. Если заглянуть Саймону внутрь, то увидишь матрешку — снаружи Саймон, а дальше, одно внутри другого, его овеществленные воспоминания о любви с той, с другой, с третьей и так далее. Саймон был не Саймон, а «Большой Робер» взаимных мастурбаций, «Брокгауз» куннилингусов и «Британская энциклопедия» раздвинутых ног. Если Сара вдруг вспоминала об этом, когда они занимались любовью, то начинала рыдать — Саймон был в ней, а она начинала рыдать. Иногда она вспоминала об этом буквально за мгновение до оргазма, на самом краю пропасти удовольствия, и через секунду заходилась в судорогах, у которых было сразу две причины. Потом она затихала, а Саймон оставался в ней, пораженный смятением чувств, в которое сам же — и сознательно — ее поверг.
Где же он? Почему он все еще не здесь, почему она все еще не может схватиться за него, опереться на него, как на мачту, и устоять в водовороте «Силинка»? Ведь как только Саймон войдет, весь клуб превратится в палубу сотрясаемого бурей корабля, по которой они заскользят в сторону постели, с руками, сначала сплетенными в молитве о спасении, затем до боли сжатыми в порыве страсти. Где же он?
Он стоял на краю асфальтового футбольного поля под названием Оксфорд-Сёркус[21] у магазина «Топ-Шоп»,[22] прислонясь к обращенной на юг стеклянной витрине, посасывая сигарету и разглядывая угол Риджент-стрит. У него было нечто вроде приступа клаустрофобии, виски ломило. В поезде ему стало плохо; пожалуй, вообще не стоило ехать на метро. Точнее, не стоило перед тем, как ехать, курить на Слоун-Сквер тот косяк. Саймон надеялся, что отдохнет от своего тела, пока его будут транспортировать в Уэст-Энд, возьмет этакий ментальный отпуск. Однако трава, с характерной для нее предсказуемостью, на манер тупого дворецкого лишь распахнула пошире двери сознания и впустила туда еще больше отвращения, еще больше тошноты.
Все началось на эскалаторе, битком набитом пересаживающимися с линии на линию пассажирами. Я всю свою жизнь только и делаю, что наблюдаю эти когорты спускающихся и поднимающихся людей, подумал Саймон, они, как роботы, маршируют локоть к локтю по туннелям и лестницам, но не прикасаются друг к другу. Как пролы у Ланга в «Метрополисе».[23] Точь-в-точь как пролы у Ланга в «Метрополисе». Эта мимолетная, совершенно поверхностная мысль оживила, тем не менее, одно старинное воспоминание, которое вдруг сообщило ей такую глубину и мощь, что Саймон вздрогнул, как от удара током. Он ведь смотрел «Метрополис» еще ребенком — в семь лет — и был потрясен резкостью нарисованного Лангом бесчеловечного, механизированного мира, где властвует технологический Молох; однако будущий художник вышел из зала с уверенностью, что видел вовсе не черную антиутопию, а своего рода документальный фильм.
И он оказался прав. Это действительно был документальный фильм, фотография безликой толпы, доказательство, что каждое тело в этом франкенштейновом грядущем есть не более чем сумма его частей, а их наборы у всех одни и те же. И у автомата с кока-колой Саймон побледнел от ужаса, а под станционным табло его прошиб холодный пот; он остро почувствовал, как складки мокрой ткани впиваются ему в промежность — помниутебяестьтелопомниутебя-естьтелопомниутебяестьтело.
А еще он солгал на вернисаже этой женщине, этой прожженной писаке из «Современного журнала». Наврал ей про свою выставку. Наврал, что у него роман с человеческим телом. В его картинах не было места никаким идеалам из живой плоти и крови. Он писал другое, нереальное, на его полотнах метрополис выкручивал телу руки, рвал его на части своими поездами и самолетами, офисами и апартаментами, фетишизмами и фашизмами, плазами и пиццами.