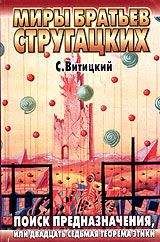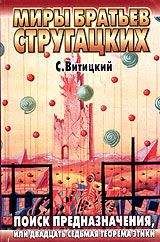— Господин Президент! — наседал Майкл, растерявший в эти секунды все свое чувство юмора. — Я категорически настаиваю. Я в конце концов здесь старший охраны. Вы должны прислушиваться ко мне, господин Президент!.. Константин, держи этого жлоба, возьми его, пока он не удрал…
И тут его схватило. Как всегда, ни с того, ни с сего, и как всегда, абсолютно некстати. Зазвенело в ушах, мир отдалился, отодвинулся, словно нарисованные мрачные декорации, и отдалились голоса: только на самом краю слышимости гудело, рокотало, ворчало, булькало — взволнованно-настырный Майкл, и бормочущие на холостом ходу двигатели, и по-генеральски взрыкивающий совсем рядом майор… этот-то откуда здесь взялся, он же далеко, где огонь холодеет… задыхается, умирает и никак не умрет, несытый, слабо шевелящийся, уже некрасивый… жалко… А ведь могу сейчас и подковы отбросить, надо же как глупо… вот будет смешно: ехал друга вытаскивать из темноты на эту сторону да сам в ту же темноту и провалился… Нет. Не сейчас. Не сегодня. Еще. Обещаю… Кто это сказал мне? Давно. Не помню. Но обещание это было тогда нарушено, это — помню…
Среди бормотания, шелеста, тоненького звона и эфирного свиста раздался вдруг — совсем над ухом — напряженный голос Ванечки:
— Подожди. Заткнись. Видишь — его схватило. Пусти… Ч-черт, до чего же не во-время…
— Это всегда не во-время, — сказал он одеревенелым ртом, непослушным языком, онемелым горлом. — Все. Спокойно. Проехало… — оказывается он сидел уже на водительском месте, и ему было холодно. — Где мои пилюли? Надо — две… А можно и три.
Онемелые пальцы сами собой нащупали непослушную трубочку с пилюлями и привычно отвинтили крышечку. Знакомая освежающая горечь оживила язык, небо, придвинула мир, поставила его на место, отсортировала звуки: далекие стали слабыми, близкие — громкими. Стало слышно, как тяжело и быстро дышит Майкл. Будто загнанный. А пальцы Ивана, оказывается, ловко и быстро расстегивали ему воротник, массировали шею под затылком, держали за пульс — и все это вроде бы одновременно.
— Все. Все, — сказал он, преодолевая удушье. — Обошлось. Я же сказал: еще не сегодня. Извольте верить. Я, как известно, никогда не лгу… Честный Стас…
— Ну, Хозяин! — сказал Майкл. — Ну, с вами не соскучишься…
Он все еще шумно дышал. Как после схватки. Он, видимо, был основательно потрясен, а может быть, даже и напуган. Никогда раньше не видел, как Хозяина схватывает… И никогда до сих пор не называл своего Господина Президента — Хозяином: считал это почему-то жлобством и плебейством. (Он происходил из хорошей интеллигентной семьи, способен был наслаждаться Томасом Манном и Генрихом Гессе, восхищался Бунюэлем, писал потихоньку диссертацию на какую-то заумную филологическую тему и в бодигарды пошел исключительно из идейных соображений. Артем относился к нему с некоторым профессиональным пренебрежением, но в то же время и уважал — за образованность и хорошую природную реакцию).
— Все, — повторил он снова. — Все! По машинам. Нечего нам тут больше… Поехали.
Но поехали они, однако, не сразу. Во-первых, его еще не вовсе отпустило. Вести машину — об этом и речи быть не могло, а передвинуться с водительского места на пассажирское — руки-ноги словно онемели, не слушались и не двигались. Не желали. Чтобы скрыть это обстоятельство он затеял обсуждать порядок движения: кто впереди, кто сзади, какая там может быть засада, какую машину будут в первую очередь уязвлять, переднюю или заднюю — но и дискуссия на удалась: возникла вдруг ситуация совсем неожиданная и даже странная.
Как выяснилось, мужичонка-наводчик, которого держать перестали и за суматохой совсем забыли, и не подумал никуда удирать. До этого момента он стоял как вкопанный тут же, на заднем плане, и только головой подавался вправо-влево, чтобы получше видеть, что там происходит внутри машины. Он и сейчас лупал глазами на него, будто чудо какое-то чудесное вдруг перед ним распустилось пышным цветом, но дело, видимо, было не в любопытстве его и не в естественном для провинциального человека желании поглазеть на халяву (сенсорная депривация, информационное голодание, то, се). Он, видимо, все это время осознавал, сопоставлял, мучительно анализировал и, подведя наконец свои итоги, вдруг разразился целым шквалом звуков и телодвижений. Он сорвался с места, попытался протиснуться к центру события поближе и, не переставая дергаться, протискиваться, хватать окружающих за руки, заговорил быстро, горячо, брызгаясь мелкой слюной, многословно и совершенно почти неразборчиво. Только отдельные словосочетания (главным образом, — на языке межнационального общения) угадывались вдруг в этой бурлящей и булькающей каше: «Хозяин… ни в каком разе… страшное, бля, дело… не разберешь, нА-муй… Герб Ульяныч… за что, бля?… сынки ведь, двое…»
Сначала он понял так, что мужичонка, будучи и в самом деле Вакулинским наводчиком, уловил из разговоров, что имеет дело с самим Хозяином, страшно устыдился своего окаянства и теперь вот тужится, пробиваясь сквозь телохранителей и собственное проклятое косноязычие, убедить: не ехать, отказаться, остаться тут… далеко ли до греха?.. смертоубийство же, страшное дело… шестнадцать человек… И так далее. Опознанный Хозяин мельком даже отметил в себе пробудившееся на мгновение сладкое чувство политического тщеславия («вот и в провинции нас знают… ценят… а ведь казалось бы, кто я ему?…»), но стыдное это чувство он в себе тут же привычно подавил — и во-время: новый и совсем другой смысл страстных речей вдруг дошел до него, и хотя полной уверенности в том, что Иван-блин-Сусанин имеет в виду именно это, у него так и не возникло, но уже трудно и даже невозможно теперь стало отделаться от предположения, что мужичонка беспокоится вовсе не о драгоценной жизни свалившегося вдруг ему на голову Хозяина (лучшего друга всех маловишерцев) — о судьбе засады Герб Ульяныча Вакулина он переживает, о шестнадцати своих сотрудниках-соратниках-подельниках, из коих двое, кажется, его сыновья.
— …пожалеть надо… — кипело в горячей каше, выныривало, как кусок сала, и снова тонуло в бульканье и вязких пузырях… — тоже ведь люди… А за что?… налогами задавили… а ему без машины куда?.. е-н-ть… бля… нА-муй…
(Страх. Только страх управляет этим миром. И ничего, кроме. Не обманывайте ни себя, ни меня. И не разглагольствуйте при мне, пожалуйста, о подвигах, о доблести, о славе. О чести, доблести и геройстве. Об уме, чести и совести. О красоте, которая спасет мир. И о семи праведниках. И об иронии-жалости. И о милосердии-доброте…)
— Что, обосрался? — спрашивал Ванечка, сладострастно-злорадно ухвативши и забирая в мосластую свою жменю воротник мужичонки. — Вот беги теперь к своему Гроб Ульянычу и передай: всем вам скоро будет окончательный…ец,…дец и перебздец!