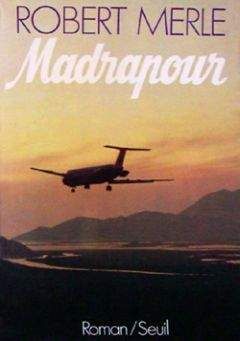– Господа, господа,– без особой убеждённости говорит Караман.
– Мандзони,– говорит миссис Банистер тоном, каким сюзерен обращается к своему вассалу, когда даёт ему рыцарское поручение,– помогите мсье Пако отобрать у этого проходимца то, что он украл.
– Хорошо, мадам,– говорит, слегка бледнея, Мандзони.
Это трогательно или, если хотите, комично: Мандзони встаёт, расправляет плечи и в своём белоснежном одеянии, точно карающий ангел, идёт на Христопулоса. Не знаю, умеет ли и любит ли Мандзони драться, но его рост, ширина плеч и решительная походка оказывают чудотворное действие.
Христопулос встаёт, затравленно озирается и, сделав крутой вираж вокруг собственной оси, поворачивается к Пако и к Мандзони спиной, бежит, быстро семеня толстыми ногами, к кухне, отдёргивает занавеску и исчезает.
Пако и Мандзони растерянно застывают. Мандзони, подняв бровь, делает полуоборот в сторону миссис Банистер и вопросительно на неё смотрит, ожидая дальнейших инструкций.
– Обыщите его сумку,– командует миссис Банистер.
Блаватский ни слова не говорит и не делает ни единого жеста. Он наблюдает за происходящим как посторонний. Можно подумать, что это его не касается.
Мандзони не без отвращения открывает саквояж Христопулоса.
– Это она, мадемуазель? – спрашивает он у бортпроводницы, показывая ей издали маленькую серую коробку, но вместо того, чтобы прямо ей и отдать её, он передаёт коробочку Пако, а тот протягивает её бортпроводнице. Должно быть, Мандзони опасается, что миссис Банистер заподозрит его в желании дотронуться до руки бортпроводницы. Дрессировка, я вижу, идёт успешно.
– Это она,– говорит бортпроводница.– Там должны быть ещё семь таких упаковок.
Мандзони извлекает их одну за другой из саквояжа Христопулоса, и Пако передает их бортпроводнице.
Пассажиры молча и с некоторым уважением следят за этой операцией. Бог весть почему эти коробочки стали вдруг для них величайшей драгоценностью. А ведь им достаточно посмотреть на меня, чтобы понять: терапевтический эффект таблеток онирила ничтожен – даже если они делают менее мучительными остающиеся нам минуты.
Чья-то рука отодвигает занавеску кухни, появляется Мюрзек, за ней плетётся Христопулос; он на целую голову выше её, но сгорбился весь и съёжился, прячась за ней. Его чёрные усы дрожат, по искажённому страхом лицу ручьями течёт пот.
– Мсье Христопулос мне всё рассказал,– говорит нам Мюрзек.– Я прошу вас не причинять ему зла.
– Паршивая овца под защитой козла отпущения,– говорит Робби так тихо, что, думаю, только я один его слышу.
– Скажите мне,– продолжает Мюрзек, бросая нам евангельский вызов,– как собираетесь вы с ним поступить?
Круг раздражённо молчит.
– Да, разумеется, никак,– говорит миссис Банистер, удивленная тем, что Блаватский всё так же безучастен и предоставляет ей одной всё решать.
Мандзони возвращается на своё место, Христопулос – на своё.
– Мадемуазель,– продолжает миссис Банистер, обращаясь с высокомерным видом к бортпроводнице,– заприте эти коробки на ключ. И доверьте ключ мсье Мандзони.
Бортпроводница не отвечает. Усевшись в кресло, Мандзони пытается туже затянуть узел своего галстука, хотя он нисколько не ослаб, а Христопулос рухнул на сиденье, опустил глаза вниз и, спасая жалкие крохи своего достоинства, бормочет в усы какие-то слова, о которых я затрудняюсь сказать, извинения это или угрозы.
– Недостаточно просто снова допустить мсье Христопулоса в наши ряды,– говорит Мюрзек, оглядывая круг неумолимыми синими глазами.– Нам нужно его простить.
– Мы его уже простили, простили,– едва слышным голосом отзывается Робби с сильным немецким акцентом.– Мадам,– говорит он, произнося «д» как «т»,– вы за меня помолились?
– Нет,– говорит Мюрзек.
– В таком случае вы можете оставить Христопулоса на моё попечение,– говорит Робби.– Я позабочусь о его интересах.
Я жду, что за полной серьёзностью тона, с какой Робби отсылает её за него помолиться, Мюрзек сумеет всё-таки распознать его дерзкий умысел. Но я ошибаюсь. Должно быть, вместе со злостью она утратила и свою проницательность, потому что с простодушием, которое меня поражает, она говорит:
– Я вам весьма благодарна, мсье Робби.
И, с военной выправкой развернувшись на каблуках, она опять исчезает за кухонной занавеской.
Едва она успевает выйти, Робби обводит круг глазами и, с видом крайней усталости опираясь головой о спинку кресла, говорит чуть слышным голосом:
– Для мсье Христопулоса это тем более простительно, что он поддался иллюзии, в которой все мы грешны. Он предположил, как и каждый из нас, что он будет единственным, кто останется в живых.
– Да что вы такое говорите! – восклицает Караман, на сей раз не в силах обуздать свой гнев.– Это нелепо! Вы бредите, мсье! И не надо навязывать нам свой бред!
Губы у него дрожат, и он с такой силой стискивает руки, что я вижу, как у него побелели суставы. Он продолжает раздражённым тоном:
– Это недопустимо! Вы хотите вызвать панику среди пассажиров!
– Я этого совершенно не хочу,– говорит Робби; его голос очень слаб, но он ни на йоту не отступает со своих позиций. Он добавляет: – Я высказываю своё мнение.
– Но его не нужно высказывать! – в гневе кричит Караман.
– А вот об этом позвольте мне судить самому,– говорит Робби совсем уже шёпотом, но с огромным достоинством, которое, видимо, внушает Караману уважение, потому что он замолкает, опускает глаза и делает над собой большое усилие, чтобы взять себя в руки.
Эта сцена для всех чрезвычайно мучительна. Никто не мог ожидать такого всплеска ярости от Карамана, да ещё по отношению к больному, у которого почти не осталось голоса, чтобы защищаться.
– Я буду держать онирил под замком,– спустя несколько секунд говорит бортпроводница, желая, вероятно, разрядить обстановку.
Но её отвлекающий маневр оказывается не очень удачным, ибо тем самым она снова толкает Робби на путь высказываний, которые Караман именует бредовыми.
– Теперь это уже бесполезно,– говорит Робби и неуверенным жестом поднимает правую руку, требуя внимания.– Надо сейчас же раздать по таблетке онирила всем пассажирам, которые этого пожелают.
Он говорит голосом таким слабым, таким прерывистым, что все мы, даже Караман, даже Блаватский (по-прежнему подавленный и молчаливый), напрягаем как можем слух, чтобы его услышать, и при этом никто – такова его странная власть над нами – не помышляет о том, чтобы его прервать или заглушить своим голосом его слова.
– Но мы не больны,– говорит миссис Банистер.
– А что же тогда такое… наша тревога? – отзывается Робби и смотрит на неё с бледной улыбкой.