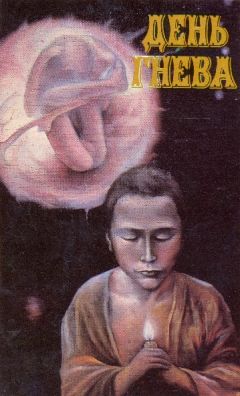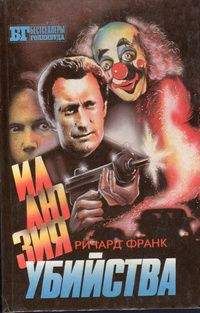— Эти лентяи притащились с вами?
Я обернулся.
Патруль, я о нем забыл, удобно расположился в десяти шагах от домика на округлых каменных валунах, загромождающих обочину площадки. Солдаты чистили оружие, офицер курил. Наверное, они не отказались бы от кофе, но они мне не нравились. Я так и сказал Альписаро Пасседе: они мне не нравятся. Он хмыкнул и заметил, что я ему тоже не нравлюсь. Но мне чашку кофе он сварил.
Он был живой, здоровый, полноценный человек. Мыслил он здраво и энергично. Я никак не мог поверить тому, что он способен бежать нагишом и с мотыгой срывать с лица земли башни Келлета.
— Я не спрашиваю, кто вы, — заметил Альписар Пасседа, разливая по чашкам ароматный кофе. — Я, собственно, и не хочу знать, кто вы такой, но вот любопытно… — он поднял на меня умные темные глаза. — Но вот любопытно, что в „Газетт“ пишут о вашей судьбе?
— Ничего, — сказал я правдиво.
— Совсем ничего?
— Совсем.
— Значит, такие люди еще есть?
— Что значит — такие?
Он пожал мощными плечами. Его темные глаза были очень выразительны:
— Вас удивила сегодняшняя „Газетт“?
Я кивнул.
— И вы пришли посмотреть на сумасшедшего, который сам полезет под пули сумасшедших?
Я опять кивнул.
— Ну и как? Похож я на сумасшедшего?
— Не очень. Но я рад, что я вас увидел. Мне кажется, вы не поддадитесь искушению.
— Искушению? — Он задумался. — Пожалуй, это точное слово. — И вдруг он взглянул на меня чуть ли не смущенно: — Послушайте… Раз уж вы пришли… Я там не все понял в этой заметке… Ну, башни Келлета, ну мотыга, полицейские, ладно… Но я не знаю, что такое Бастилия…
Я чуть не рассмеялся.
— Это тюрьма, — объяснил я. — Знаменитая тюрьма. О ней упоминалось в школьных учебниках еще при Ферше, но сейчас никаких упоминаний вы уже не найдете, учебники переписаны много раз. Тюрьму эту снесли французы во время своей самой знаменитой революции.
— Тюрьма… — разочарованно протянул Альписар Пасседа. — Всего-то… Хватит с меня и башен Келлета…
Я кивнул.
Визит меня не разочаровал. Уходя, я знал, что жители Альтамиры, к счастью, не состоят только из таких, как я».
«…Несколько дней я не видел очередного номера „Газетт“, несколько дней я безвылазно сидел на старой мельнице Фернандо Кассаде. Все эти дни Маргет искала меня, а вечерами ходила смотреть на негаснущее окно президентского кабинета. Там собирались восторженные толпы, но, приходя домой, Маргет плакала — она не находила в списках моей фамилии. На пятый день, совсем расстроенная, Маргет решила наконец разыскать меня. На узкой тропе, ведущей к мельнице, она сильно вывихнула левую ногу. Случайные прохожие. привели ее домой, а в это время вернулся и я.
Кое-как успокоив и утешив Маргет, я взялся за „Газетт“.
И сразу обнаружил значительные изменения.
Сперва я подумал о невнимательности корректоров, потом о спешке, потом о необходимости собирать весьма объемную информацию в столь короткий срок. Впрочем, самая первая полоса, постоянно и обильно выдававшая портреты нового президента (примерно пять разновидностей), так же постоянно и обильно рассказывающая о вчерашней погоде, о солнечных и лунных фазах, осталась прежней. Это, естественно, касалось прежде всего цифр. Им, цифрам, и полагается быть неизменными, но вот слова, те самые слова, которые читатель обычно отмечает автоматически, даже не прочитывая их, не произнося про себя, эти слова большей частью выглядели достаточно нелепо. Скажем, время восхода печаталось теперь и читалось и как вырхз спранди, и как хрьдо шалвцми, и даже как пъзър олдржак. Собственно, слова эти действительно можно было и не читать, ведь время восхода все равно останется временем восхода.
— Хрьдо шлавцми… — произнес я вслух.
Маргет не нашла во всем этом ничего дурного.
— Ты все равно пропускаешь эти слова, значит, они необязательны. — Логика Маргет была проста. — А цифры есть цифры. Они остаются точными.
Похоже, новая жизнь вполне удовлетворяла Маргет. Ее слезы могли касаться вывихнутой ноги, моего пристрастия к обандо, но никак уж не новой жизни. Она считала, что впервые за много лет, а может быть, впервые за всю историю в Альтамире воцарились спокойствие и уверенность. Каждый (почему-то она забывала про меня) знает, чем будет занят его завтрашний день, каждый уверен, что этот день не будет хуже вчерашнего. А если кому-то уготована судьба похуже, что ж… не злоупотребляй обандо… разве нас не предупреждают?
Я сам слышал, как кто-то на улице спросил: хохрз сшвыб? — и ему ответили: пять семнадцать.
Хохрз сшвыб… Я перестал удивляться чему-либо.
Лишь одно не могло меня не трогать. Все жители Альтамиры прошли по страницам „Газетт“, только мое имя там не упоминалось. Мне ничего не пророчили, мне ничего не обещали. Почему?
Правда, никто мне и не мешал жить так, как я живу.
Теперь я каждый день ходил на мельницу старого Фернандо Кассаде. Я не пытался больше уйти от патруля, ведь солдаты и офицер просто шли за мною, никогда мне ни в чем не препятствуя. Наверное, в их постоянном присутствии был какой-то темный смысл, но, святая Мария, я никак не мог его уловить. Я даже сказал однажды офицеру, устроившемуся выше по ручью под тенью пальмы:
— Я прихожу сюда пить обандо.
— Нехорошее дело, — ответил офицер убежденно.
— Наверное. Но я прихожу сюда пить обандо. Вы когда-нибудь пробовали обандо?
— Конечно, — сказал офицер.
— А сейчас выпьете обандо?
— Нет. Нехорошее дело, — ответил офицер убежденно.
— Наверное, вас интересует спорт?
— Да. Это полезное дело.
— Это так, но ведь оно возбуждает, оно лишает покоя. Ведь всегда интересно знать, какая лошадь придет в гонке первой.
— Вы, наверное, не видели сегодняшней „Газетт“, — заметил с достоинством офицер. — Сегодня первой придет „Гроза“. Она принадлежит Хесусу Эли.
— Вот как? А какая лошадь будет второй?
Офицер перечислил всех лошадей по порядку из финиша. Я расстроился:
— А как же с прелестью неожиданного?
— О чем вы? Не понимаю.
— Вот и хорошо, — вовремя спохватился я. — А зачем вы за мной ходите? Ведь об этом ничего не говорится в „Газетт“.
— Обандо, — поцокал языком офицер. — Есть нарушения. Это временные меры.
Тем не менее патруль ходил за мною повсюду. Я привык к нему, как постепенно начал привыкать к вырхз спранди и хрьдо шлавцми. Как постепенно привык к „Газетт“ и к телевизору, на экране которого не было ничего, кроме пресловутого „Пожалуйста, соблюдайте спокойствие“. Я научился соблюдать спокойствие, я мог часами сидеть перед мелко подрагивающей картиной. Я начал понимать, что свобода это вовсе не выбор. Свобода — это когда выбора у тебя нет.