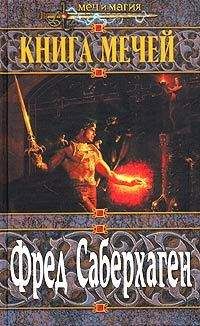Дин Кунц
«Что знает ночь?»
«Смерть — неоткрытая страна, из чьих пределов путник ни один не возвращался».
Вильям Шекспир, «Гамлет».
Год, в котором произошли эти события, значения не имеет. И где это случилось, тоже. Время — всегда, место — везде.
Внезапно в полдень, через шесть дней после убийств, птицы полетели к деревьям и насиженным гнездам. Их крылья рассекали воздух, словно мечи, а их уже настигал ливень. Так что вторая половина дня выдалась сумеречной и залитой водой.
Больница штата стояла на холме, ее силуэт прочерчивался на фоне серого и мокрого неба. Свет сентябрьского дня растворялся в струях дождя.
Ряд восьмидесятифутовых пурпурных буков разделял въездную и выездную полосы движения. Ветви висели над автомобилем и собирали капли, чтобы потоком сбросить их на ветровое стекло.
Дворники двигались медленно и тяжело, в том же ритме билось и сердце Джона Кальвино. Он не включал радио. Тишину нарушали только шум двигателя, дворников, дождя, шуршание шин по влажной мостовой и не уходящие из памяти крики умирающих женщин.
У главного входа он, нарушая действующие правила, припарковался под козырьком. Над приборным щитком приставил к ветровому стеклу табличку с надписью «ПОЛИЦИЯ».
Джон Кальвино служил детективом в отделе расследования убийств, но этот автомобиль принадлежал ему, а не полицейскому управлению. Использование таблички в свободное от работы время определенно являлось пусть и незначительным, но нарушением действующих инструкций. Но его совесть отрастила слишком толстую кожу, спасибо куда более серьезным проступкам, которые ему доводилось совершать, чтобы обращать внимание на неподобающее использование полицейских привилегий.
В вестибюле за регистрационной стойкой сидела стройная женщина с коротко стриженными черными волосами. От нее пахло табачным дымом: сигареты в перерыве на ленч помогали унять аппетит. Рот суровостью не уступал пасти игуаны.
Взглянув на полицейское удостоверение Джона и выслушав его просьбу, она воспользовалась аппаратом внутренней связи, чтобы вызвать сопровождающего. Зажав ручку в тонких пальцах — белые костяшки, казалось, высекли из мрамора, — она записала в регистрационную книгу его имя, фамилию и идентификационный номер.
Надеясь услышать что-нибудь интересное, она хотела поговорить с ним о Билли Лукасе.
Но Джон отошел к окну. Уставился на дождь, не видя его.
Несколько минут спустя в сопровождении массивного санитара, которого звали Коулман Хейнс, детектив поднимался на верхний этаж больницы. Хейнс так плотно заполнял собой кабину, что казался быком, загнанным в узкое стойло и ждущим, когда же откроется дверь на арену родео. Темная кожа лица чуть поблескивала, и на контрасте белая униформа слепила глаза.
Они говорили об аномальной погоде: дождь, чуть ли не зимний холод, хотя календарное лето только-только закончилось. Ни убийства, ни безумия они не касались.
Говорил главным образом Джон. Санитар флегматично слушал, лишь иногда односложно отвечал.
Двери кабины открывались в холл. За столом сидел розоволицый охранник, читал какой-то журнал.
— Оружие у вас есть? — спросил он.
— Табельный пистолет.
— Вы должны сдать его мне.
Джон достал пистолет из плечевой кобуры, передал охраннику.
На столе стояла сенсорная панель управления «Крестрон». Когда охранник нажал на соответствующую иконку, электронный замок открыл дверь по его левую руку.
Коулман Хейнс первым вошел во вроде бы обычный больничный коридор: серые виниловые плиты пола под ногами, светло-синие стены, белые потолки с флуоресцентными панелями.
— Его со временем переведут на открытый этаж или он всегда будет содержаться с соблюдением таких мер безопасности? — спросил Джон.
— Я бы навсегда оставил его здесь, — ответил Коулман. — Но решать врачам.
Хейнс перепоясывал ремень, к которому крепились маленький баллончик с «Мейсом», «Тазер», пластиковые наручники и рация.
Все двери были закрыты. На каждой крепился пульт управления электронным замком, с которым соседствовал глазок.
— Глазки двухслойные, — пояснил Хейнс, заметив интерес Джона. — Внутренний слой — пуленепробиваемое стекло. Наружный — обычное. Но вы увидите Билли в консультационной палате.
Они вошли в квадратное помещение со стороной в двадцать футов, разделенное перегородкой высотой в два фута. На этой стенке и до потолка стояли панели толстого армированного стекла в стальных рамах.
В каждую панель, в самом низу и на высоте чуть выше человеческого роста, встроили прямоугольные стальные решетки, чтобы люди, находящиеся в разных частях консультационной палаты, могли переговариваться.
Ближняя часть чуть уступала размерами дальней: двадцать футов в ширину, восемь в длину. Два кресла стояли под углом к стеклянной стене, между ними — маленький столик.
Обстановка дальней части консультационной палаты состояла из кресла и кушетки, то есть пациент мог сидеть или лежать.
По эту сторону стекла ножки у кресел были деревянные, обивку украшали декоративные пуговицы.
За стеклом ножки прятались в специальные набивные чехлы. И никаких тебе пуговичек или обойных гвоздиков — только гладкая материя.
Смонтированные на потолке гостевой половины камеры наблюдения держали под контролем все помещение. Находясь на посту охранника, Коулман Хейнс мог все видеть, но не слышать.
Прежде чем уйти, санитар указал на панель аппарата внутренней связи, которая крепилась к стене у двери.
— Позвоните мне, когда закончите.
Оставшись один, Джон ждал, стоя у кресла.
На стекло, вероятно, нанесли антибликовое покрытие, так что на полированной поверхности он видел лишь едва заметный призрак своего отражения.
В дальней стене, на стороне пациента, два забранных решетками окна позволяли лицезреть дождь и черные облака, зловещие, как злокачественная опухоль.
В левой стене открылась дверь, и Билли Лукас вошел в консультационную палату, по другую сторону стекла. В шлепанцах, серых брюках из хлопчатобумажной материи с эластичным поясом и серой футболке с длинными рукавами.
Его лицо, с гладкой, как сметана на блюдце, кожей выглядело открытым и бесхитростным, не говоря о красоте. С бледной кожей и густыми черными волосами, одетый в серое, он словно сошел с портрета Эдварда Штайхена[1] из 1920-х или 30-х годов.
Единственным цветовым пятном, единственным на стороне Лукаса, была яркая, прозрачная, горящая синева его глаз.