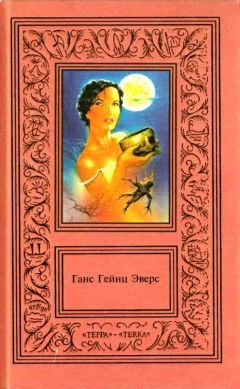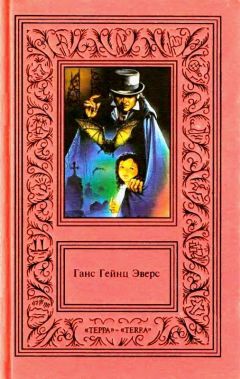Следующая картина показалась герцогу еще более ужасной. Она изображала в естественную величину мужской труп, пришедший в совершенное разложение. Из глазных впадин выползали черви; насекомое, похожее не черного, усеянного желто-красными крапинами жука, пожирало нос и рот. На разорванном животе сидели два изумительно написанных коршуна. Один из них погрузил глубоко в живот голову и шею, другой пожирал вытащенные наружу внутренности. В ногах виднелось несколько крыс, которые жадно глодали сгнившие пальцы.
Герцог отвернулся, бледный, как мертвец. Он почувствовал, что его сию минуту стошнит. Но старик потянул его за рукав:
— Нет, нет, вглядитесь в картину хорошенько. Она самая лучшая из всех моих картин, вполне достойная вашего великого предка, Людовика XIV. Вы его не узнаете? Это был он, который сказал наглое слово: «Государство — это я». Ну вот вы и видите, какое это было государство в действительности: сгнившее, сожранное, разложившееся…
Герцог опустился в кресло, повернувшись к картине спиной. Он налил полную рюмку и выпил.
— Разрешите, господин Дролинг! Ваше искусство действует даже и на крепкие нервы.
Художник подошел к нему и протянул ему рюмку:
— Будьте добры, налейте и мне! Благодарю вас! Чокнемся, господин Орлеанский, за то, что я наконец избавился от проклятия!
Рюмки зазвенели одна о другую.
— Да, я теперь свободен! — продолжал старик, и в его дрожащем голосе зазвенело ликование. — все эти ужасные сердца исписаны, а то немногое, что от них осталось, покоится в моих табакерках. Труд моей жизни кончен. Отныне я никогда больше не возьму в руки кисти. Когда вы распорядитесь сегодня пополудни взять мои картины, то захватите с собою также и все мои рисовальные принадлежности. Вы обяжете меня, если сделаете это! — Затем страстным голосом он воскликнул: — И никогда, никогда больше я не буду иметь надобности видеть весь этот ужас! Я свободен! Совершенно свободен!
Он пододвинул стул вплотную к креслу герцога и схватил обеими руками его правую руку.
— Вы — Орлеанский, вы сын короля Франции. Вы знаете теперь, как ненавижу я вашу семью. Но в это мгновение я так бесконечно рад, что почти забываю, какие ужасные мучения в течение целых десятилетий я испытывал из-за вашей семьи. С тех пор, как стоит земля, никогда ни один человек не вел такой жизни. Слушайте, я хочу вам сказать, как все это произошло. Хоть один человек должен это знать. Почему же этому человеку не быть наследником трона нашей несчастной страны?
Я уже говорил вам, что купить королевские сердца и таки образом дешево приобрести мумии побудил меня ваш дед, Филипп Эгалите. Он был мой добрый друг и часто посещал меня, и ему я обязан тем, что моя картина была приобретена государством для Лувра. Этот внутренний вид кухни был первой картиной, для которой я употребил сердце. Из презрения к королю я написал тогда мумией — маленькой частью сердца Людовика XIII — горшок с отбросами. Дешевая и безвкусная шутка! Впрочем, в то время мои чувства к вашему дому были не такие, как теперь. Хотя я ненавидел короля и австриячку, но не более, чем все парижане. А Филипп был даже мой добрый друг. Его ненависть к собственной семье была даже больше. Чем моя, и никто иной, как именно он, внушил мне мысль употребить королевские сердца не только для материального, но и для идейного содержания моих картин. И это именно он подал мне мысль нарисовать «сад» Людовика XI, чтобы достойным образом изобразить сердце этого короля.
Скажу вам, господин Орлеанский, что я был тогда восхищен идеей вашего деда. Я имел в распоряжении тридцать три сердца, и из них восемнадцать королевских сердец. Я мог написать восемнадцать картин из французской истории так, как они отражались в сердцах этих королей, и я мог написать эти картины их собственными сердцами! Можете ли вы представить себе что-нибудь более соблазнительное для художника?
Я тотчас же приступил к работе, начав с сердца Людовика XI, и вместе с тем стал изучать историю моей страны, с которой до того я был знаком очень мало. Ваш дед доставлял мне книги, которые он мог раздобыть, а также множество секретных актов, дневников, мемуаров, из Сорбонны, из королевского замка, из ратуши. В течение долгих лет я погружался в сочащуюся кровью историю вашего дома и проследил весь жизненный путь каждого из ваших предков до последнего их дыхания. И все более сознавал я, какую ужасную работу возложил на себя. Ведь каждяа картина должна была предсталять собою квинтэссенцию всех сердечных переживаний каждого короля, а между тем все, что я ни создавал, всегда оставалось бесконечно далеко от ужасной действительности. Моя работа была так чудовищно велика, требовала такой колоссальной суммы самых ужасных мыслей и образов, какие только может вместить человеческий мозг, что я приходил в совершенное отчаяние и падал под этой гнилой, отвратительной тяжестью моей задачи. Перступления Валуа-Бурбон-Орлеанов были так чудовищно велики, что мне казалось совершенно невозможным одолеть их кистью художника. Обессиленный этой борьбой, бросался я поздно ночью на кровать, а рано утром снова начина бороться. И чем больше погружался я в эту кровавую лужу нечестивого безумия, тем немыслимее казалось мне овладеть им.
И стала расти во мне смертельная ненависть к Королевскому Дому, а вместе с тем ненависть к тому, который вверг меня в эту душевную муку. Я мог бы тогда задушить вашего деда. В течение долгого времени он был далеко от меня, и я был рад, что не вижу его. Но в один прекрасный день он вторгся, возбужденный, в мою мастерскую. Он перешел к жирондистам, сам был объявлен изменником, и его преследовали люди Дантона. Ваш отец был умнее: он остался верен якобинцам, пока не убежал с Дюмурье… И вот Филипп стал просить меня, чтобы я защитил его, — спрятал где-нибудь. О, во всем Париже он не мог бы найти другого человека, который с большим удовольствием предал бы его палачу! Я немедленно послал своего человека в Комитет, запер дверь и продержал Филиппа в плену, пока его не увели стражники. Десять дней спустя его казнили. В награду за свой патриотический поступок я выпросил себе его сердце.
Герцог прервал его:
— Но ведь вы же не могли писать свежим сердцем?
— Разумеется, не мог. Но ведь у меня было достаточно времени. Ужасающе много времени! Я должен был сначала использовать все остальные сердца. Я набальзамировал сердце вашего деда, и затем оно сохло целых тридцать шесть лет. Из него получилась превосходная краска. Это была моя последняя картина. Постойте, я покажу вам ее.
Он прыгнул к ширме и вытащил еще один подрамник.
— Вот, господин Орлеанский! То, что вы здесь видите, часто, очень часто билось тут, на том самом кресле, на котором вы сейчас сидите: это было сердце вашего деда, герцога Орлеанского, Филиппа Эгалите!