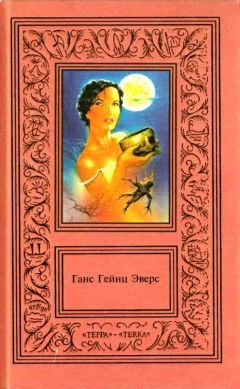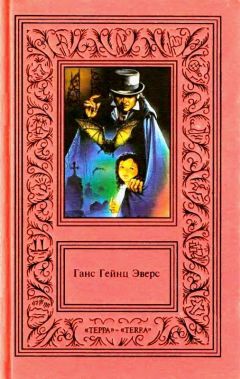Или побег. Но бежать он должен один. Один? Без нее? Он почувствовал, как ненавидит ее в эту минуту, но знал также, что не может думать ни о чем другом, только о ней. Он будет блуждать по свету бесцельно, без всякого смысла, — не будет видеть ничего и не слышать, кроме ее звонкого, щебечущего голоса, кроме ее стройной ноги в красном трико. О, он умрет от тоски по ней. Там ли, в тюрьме ли — не все ли равно. Эта нога-эта красивая, стройная ножка!
Игра проиграна — нужно платить. Он заплатит тотчас же, ночью, — он никому не останется должен. Заплатить тем, что у него осталось, — своей жизнью.
Он подумал, что ведь, в сущности, жизнь не имеет уже больше никакой ценности и что в конце концов он все-таки обманет своих партнеров.
Мысль доставила ему некоторое удовольствие. Он стал раздумывать: нельзя ли причинить им еще какие-нибудь неприятности. Это было бы для него хотя бы небольшим удовлетворением.
Он вынул из письменного стола свое завещание, в котором единственной наследницей назначалась Альрауне. Прочел, потом разорвал на мелкие клочки.
— Я должен составить новое, — пробормотал он. — Но в чью пользу, в чью?…
Он взял лист бумаги, обмакнул перо в чернила. У него есть сестра, а у той сын — Франк Браун, его племянник… Он колебался. Ему… ему? Разве не он принес в подарок
профессору странное существо, от которого тот теперь гибнет?
О, вот ему-то он должен заплатить еще больше, чем Альрауне!
Если уж суждено погибнуть так жестоко, так неизбежно, — то пусть и Франк Браун, вселивший в него эту мысль, разделит его участь. О, против племянника есть превосходное оружие: дочь, Альрауне тен-Бринкен. Она и Франка Брауна приведет туда, где сейчас стоит он, профессор, тайный советник тен-Бринкен.
Он задумался. Покачал головой и самодовольно улыбнулся с чувством последнего торжества. И написал завещание, не останавливаясь, своим быстрым уродливым почерком.
Наследницей он оставлял Альрауне. Сестре завещал небольшую сумму и еще меньшую племяннику. Его же он назначал своим душеприказчиком и опекуном Альрауне до ее совершеннолетия. Франк Браун должен будет приехать сюда, должен быть около нее, будет вдыхать удушливый аромат ее губ.
С ним будет то же, что и с другими. То же, что с графом и с доктором Моненом, то же, что с Вольфом Гонтрамом, то же, что с шофером. То же, что с самим профессором, наконец!
Он громко расхохотался. Добавил еще, что если Альрауне умрет, не оставив наследников, состояние должно перейти к университету. Таким образом, племянник в любом случае ничего не получит.
Он подписал завещание и аккуратно сложил. Потом опять взял кожаную книгу. Тщательно записал историю и добавил все, что произошло за последнее время. И за -
кончил небольшим обращением к племяннику, — обращением, полным сарказма: «Испытай свое счастье. Жаль, что меня уже не будет, когда придет твой черед, — мне бы так хотелось на тебя посмотреть!»
Он тщательно промокнул написанное, захлопнул книгу и положил обратно в письменный стол вместе с другими воспоминаниями: колье княгини, деревянным человечком Гонтрамов, стаканом для костей, белой простреленной карточкой, которую он вынул из жилетного кармана графа Герольдингена. На ней около трилистника была надпись: «Маскотта». И вокруг много спекшейся черной крови…
Он подошел к драпировке и отвязал шелковый шнурок. Отрезал ножницами небольшой кусок и положил тоже в письменный стол.
— Маскотта! — засмеялся он.
Он посмотрел вокруг, влез на стул, сделал из шнура петлю, зацепил за большой гвоздь на стене, потянул за шнур, убедился, что тот достаточно крепок, — и снова влез на стул…
* * *
Рано утром жандармы нашли его. Стул был опрокинут, — но мертвец одной ногой все еще касался его. Казалось, будто он раскаялся в поступке и в последний момент старался спастись. Правый глаз был широко раскрыт и устремлен на дверь. А синий распухший язык высунулся над отвисшей губой…
Он был очень уродлив и безобразен.
И быть может, белокурая сестренка моя, из серебристых колокольчиков твоих тихих дней льются мягкие звуки спящих грехов.
Золотой дождь струит свою ядовитую желчь там, где прежде лежал белый снег тихих акаций, — горячие кровавники обнажают свою темную синь — там, где невинные колокольчики глициний возвещают мир и покой. Сладостна легкая игра бурных страстей, но слаще, по-моему, страшная борьба их в темную ночь. Однако слаще всего спящий грех в жаркий летний полдень.
Она дремлет, нежная подруга моя, — нельзя будить ее. Ибо никогда не прекрасна она так, как во сне. Сладкий мой грех покоится в зеркале — близко, — покоится в тонкой шелковой сорочке, на белой простыне. Твоя рука, сестренка, свешивается с края постели, — тонкие пальцы с моими золотыми кольцами слегка извиваются. Прозрачны, точно первые проблески дня, твои розовые ногти. За ними ухаживает Фанни, черная камеристка, она творит чудеса. И я целую в зеркале чудеса твоих розовых ногтей.
Только в зеркале — только в зеркале. Только ласкающим взглядом и сладким дыханием губ. Ибо они растут, растут, когда просыпается грех, — и становятся острыми когтями тигра.
Разрывают мое тело…
На кружевных подушках покоится головка твоя, — и вокруг спадают твои белокурые локоны. Спадают легко, точно языки золотого пламени, точно легкое дуновение первого ветра при пробуждении дня. А маленькие зубы смеются меж тонких губ, точно молочные опалы в сверкающем запястье богини Луны. И я целую золотые волосы, целую белоснежные зубы.
В зеркале только-только в зеркале. Легким дыханием губ и ласкающим взглядом. Ибо я знаю: когда просыпается жаркий грех, маленькие опалы становятся страшными мечами, а золотистые локоны — ядовитыми змеями. Тогда когти тигрицы разорвут мое тело, острые зубы нанесут глубокие раны. Ядовитые змеи обовьются вокруг моей шеи, заползут в уши, напоят мозг своим ядом…
Видишь, сестренка, как я целую ее — тут позади, в зеркале. У феи не могло быть более легкого дыхания. Я знаю прекрасно: когда проснется он, вечный грех, — в глазах твоих засверкают синие молнии и поразят мое бедное сердце. Моя кровь забурлит, а тело мое загорится могучим огнем, — проснется безумие и развернется во всю свою ширь…
Страшный зверь, разорвав свои цепи, вырвется на свободу. Бросится на тебя, сестренка моя, — вонзится в твою прелестную грудь, которая станет вдруг могучей грудью вечной проститутки. Порвет оковы, раскроет страшную пасть, и тело оросится кровавым пороком.
Но взгляд мой спокоен, словно шаги монахинь. И тише, все тише дыхание губ моих…