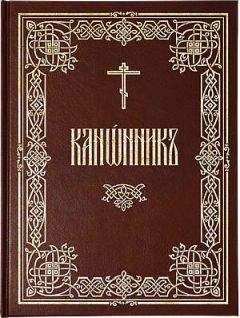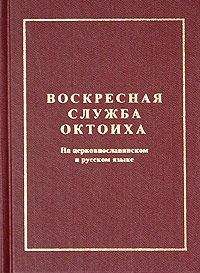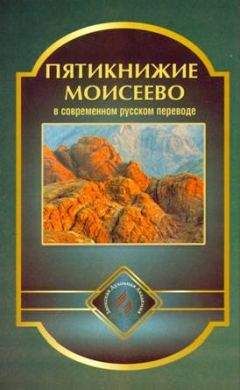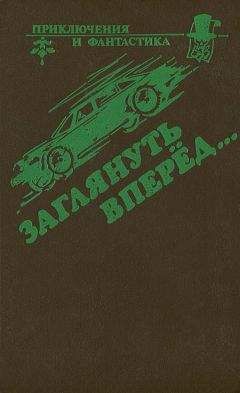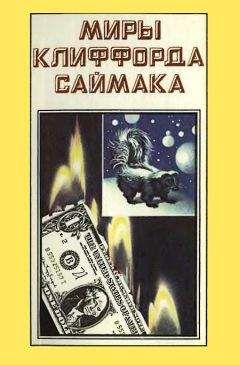теперь же, в согласии с Природой, мирно и молчаливо впивала благодать освеженного грозою воздуха. Хозяин и хозяйка Херли-Берли разделяли настроение, в которое погрузилась округа, и за чаем были неразговорчивы.
– Веришь ли, – заговорила наконец мистрис Херли, – когда я услыхала первый раскат грома, то подумала, что это… это…
Она осеклась, губы ее задрожали, и персиковые ленты кружевного чепца взволнованно заколыхались.
– Тьфу! – воскликнул старый сквайр, и чашка его задребезжала о блюдце. – Обо всем этом давно пора позабыть. Уже три месяца, как ничего не слыхать.
В этот самый миг до слуха супругов донесся грохот. Хозяйка дома, дрожа, вскочила и стиснула руки, а тем временем струйка воды из бульотки затопила чайный поднос.
– Чепуха, моя дорогая, – произнес сквайр, – это всего лишь стук колес. Кто бы мог приехать?
– В самом деле, кто? – пробормотала его супруга и уселась обратно, вся трепеща от волнения.
На пороге возникла та самая собирательница розовых лепестков, хорошенькая Бесс, в вихре голубых ленточек.
– Мадам, прибыла дама, говорит, что ее ожидают. Попросила показать отведенные ей покои, и я устроила ее в комнате, которую приготовили для мисс Калдервуд. Она кланяется вам, мадам, и обещает спуститься через минуту-другую.
Сквайр воззрился на супругу, а она на него.
– Тут какая-то ошибка, – пробормотала хозяйка дома. – Должно быть, гостья ехала к Калдервудам или Грейнджам. Какое необычайное происшествие.
Не успела она договорить, как дверь вновь отворилась и в гостиную вошла незнакомка – хрупкое создание, барышня или дама, сказать было затруднительно, но облаченная в скромное платье черного шелка и в белой муслиновой пелерине на узких плечиках. Волосы гостьи были зачесаны высоко на макушку, и лишь на низкий лоб свисала челка, не достававшая до бровей. Смуглое худощавое лицо, глаза черные, удлиненные, обведены темными кругами, губы полные, нежные, но печально опущенные; нос и подбородок ничем не выделялись. Вся она была: голова, глаза и губы.
Гостья скорым шагом пересекла комнату, сделала реверанс посреди гостиной и, приблизившись к столу, с мягким итальянским выговором объявила:
– Сэр, мадам, я прибыла. Я явилась играть на вашем органе.
– На нашем органе? – Мистрис Херли так и ахнула.
– На нашем органе? – Сквайр оторопел.
– Да, на органе, – повторила крошечная незнакомка и перебрала пальчиками по спинке стула, как если бы нащупывала клавиши. – Не далее как на прошлой неделе прекрасный собой синьор, ваш сын, переступил порог моего домика, где я жила и давала уроки музыки с тех пор, как скончались мой англичанин-батюшка и итальянка-матушка и мои братья и сестры, оставив меня совсем одну.
Тут гостья прекратила барабанить по спинке стула и по-детски, обеими руками, утерла с ресниц две крупных слезы. Но в следующее мгновение пальцы снова забегали по стулу, словно гостья могла говорить лишь при условии, что они выбивают свою неустанную дробь.
– Благородный синьор, ваш сын, – продолжала маленькая гостья, доверчиво взглядывая то на хозяина, то на хозяйку и ярко заалевшись всем своим смуглым личиком, – часто навещал меня, неизменно по вечерам, когда мой скромный кабинет заливало золотыми лучами вечернее солнце и музыка переполняла мое сердце, и я вкладывала в игру всю свою душу. Вот тогда-то он обыкновенно и приходил и говорил мне: «Поторопись, малютка Лиза, играй лучше, как можно лучше. У меня для тебя в скором времени будет много работы». Иногда он восклицал «Brava!» [1], а иногда «Eccellentissima!» [2], но как-то вечером на прошлой неделе он пришел ко мне и сказал: «Довольно. Обещаешься ли ты исполнить мою просьбу, какова бы она ни была?»
Гостья потупила черные глаза и продолжала:
– И тогда я сказала: «Да», а он сказал: «Отныне ты моя нареченная», и я сказала: «Да», и он велел: «Собери же свои ноты, малютка Лиза, и поезжай в Англию к моим родителям-англичанам. У них в доме есть орган, на котором надо играть. Если они откажут тебе, скажи, что ты моя посланница, и тогда они согласятся. Ты должна играть весь день и подниматься в ночи и играть всю ночь. Ты должна играть без отдыха, не ведая устали. Ты моя нареченная, и ты поклялась исполнить для меня это поручение». И я спросила: «Синьор, увижу ли я вас там, в Англии?» И он ответил: «Да, ты увидишь меня». Тогда я сказала: «Я сдержу свою клятву, синьор». И вот, сэр, мадам, я прибыла.
Чужеземный мягкий говор умолк, пальцы замерли на спинке стула, и маленькая незнакомка смущенно подняла глаза на слушателей, а те сидели бледные от волнения.
– Вас обманули. Вы совершили ошибку, – сказали оба в один голос.
– Наш сын… – начала мистрис Херли, но губы ее дернулись, голос надломился, и она жалобно взглянула на супруга.
– Наш сын, – отвечал сквайр, с трудом подавляя дрожь в голосе, – наш сын давно мертв.
– О нет, о нет, – возразила маленькая иностранка. – Если вы полагали, будто он умер, возрадуйтесь, дорогие хозяева. Он жив; он цел и невредим, он в добром здравии и хорош собой. Не далее как один, два, три, четыре, пять (она отсчитала на пальцах) дней тому назад он стоял передо мной.
– Тут какая-то поразительная ошибка, какое-то немыслимое совпадение! – воскликнули хозяин и хозяйка Херли-Берли.
– Отведем ее в галерею, – прошелестела мать сына, который оказался и живым, и мертвым. – Еще довольно света, чтобы посмотреть на картины. Она не узнает его по портрету.
В смятении муж с женой повели странную гостью в длинный сумрачный покой в западном крыле дома, где последние отблески света, все еще лившиеся с тускнеющего неба, слабо озаряли фамильные портреты.
– Вне всякого сомнения, с виду он примерно таков, – провозгласил сквайр, указывая на портрет белокурого молодого мужчины с кротким лицом, своего брата, пропавшего в морском плавании.
Однако Лиза покачала головой и на цыпочках беззвучно двинулась от полотна к полотну, вглядываясь в изображения и каждый раз беспокойно отворачиваясь. Но наконец слабый вскрик восторга огласил темную галерею.
– Ах, вот же он! Взгляните, вот он, благородный синьор, прекрасный синьор, хотя здесь он написан вполовину не таким прекрасным, каким был пять дней тому назад, когда беседовал с бедной малюткой Лизой! Дорогие сэр и мадам, теперь вы удовлетворены, так отведите же меня к вашему органу, чтобы я немедля приступила к исполнению клятвы, данной вашему сыну.
Хозяйка Херли-Берли со всей силы вцепилась в руку мужа.
– Сколько вам лет, милая? – слабым голосом спросила она.
– Восемнадцать, – нетерпеливо отвечала гостья, а сама уже спешила прочь из галереи.
– А мой сын мертв вот уже двадцать лет! – воскликнула несчастная мать и в обмороке поникла на грудь супруга.
Очнувшись, она приказала:
– Немедля закладывайте карету. Я отвезу нашу гостью к Маргарет Калдервуд, а та поведает ей всю историю. Маргарет заставит ее одуматься. Нет, не будем откладывать до завтра, я не смогу дождаться завтрашнего дня, слишком долго ждать. Мы