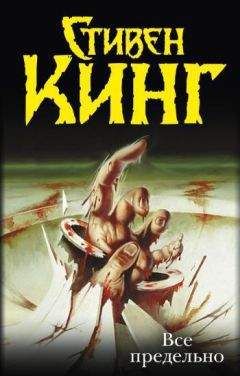Дедушка бросил сигарету, придавил ее сапогом и приступил к ритуалу растаптывания, а потом вдавливания в землю.
– Но это всего лишь начало, сынок, – продолжал он, и хотя старик говорил с ирландским акцентом, который он иногда подчеркивал, мальчику захотелось быть его сыном. – Начиная с какого-то момента время несется так быстро, словно те водители на шоссе, которые мчатся с такой скоростью, что осенью ветер от их автомобилей срывает листья с деревьев. – Что ты хочешь сказать?
– Хуже всего становится со сменой времен года, – задумчиво произнес старик, словно не расслышав вопроса мальчика. – Разные времена года перестают быть разными временами. Создается впечатление, что жена едва успела достать с чердака сапоги, перчатки и шарфы, как на улице все тает, кругом грязь и ты думаешь – скорее бы эта грязь кончилась. Чепуха, ты ничуть не будешь радоваться, что все просохло и ты сумел вытащить свой трактор из болота, в котором он застрял. А потом кажется, что ты только собрался на первый летний концерт в году, как с тополиных сережек начинают слетать пух и покрывает все вокруг. Дедушка посмотрел на внука, подняв бровь с выражением иронии, словно ожидая от мальчика объяснений, по Клайв радостно улыбнулся – он знал, что такое тополиный пух, потому что иногда его мать сгребала его до пяти вечера, по крайней мере когда отец уезжал в командировку – продавать бытовые приборы, кухонную посуду и страховку. Когда отец уезжал из дома, мать начинала пить по-настоящему, и дело заходило так далеко, что она не успевала одеться до самого заката. Затем она одевалась и уходила из дома, поручив его заботам Пэтти, потому что ей самой якобы нужно было навестить заболевшую подругу. Однажды Клайв сказал Пэтти: «Мамины подруги по большей части болеют, когда папа уезжает из дома, ты заметила это?» И Пэтти смеялась до слез, которые текли у нее но щекам, и ответила: «О да, заметила, разумеется, заметила».
То, что сказал дедушка, вот что напомнило мальчику: когда дни наконец начинали катиться к школьным занятиям, тополя как-то менялись. Дул ветер, и нижние стороны листьев становились точно такого цвета, как мамина самая красивая сорочка, – серебряными. Цвет был одновременно удивительно красивым и печальным: он указывал на то, что наступает конец времени, казавшегося раньше бесконечным.
– Затем, – продолжал дедушка, – ты начинаешь забывать некоторые события. Немногие – это, слава Богу, не старческое слабоумие, как у старика Хайдена в конце улицы, но все равно неприятно, когда ты запамятуешь о чем-то. Вообще-то нельзя сказать, что ты что-то забываешь, нет, но вот расставляешь ты это не по тем местам, где следует находиться. Вот, например, я был совершенно уверен, что сломал руку после того, как наш мальчик Билли погиб во время той дорожной катастрофы в пятьдесят восьмом году. Это относится к числу тех событии, что путаешь с другими. В этом я могу поспорить со священником Шабандом. Билли ехал за самосвалом со скоростью не больше двадцати миль в час, когда камень размером с циферблат тех часов, что я тебе подарил, упал из кузова самосвала, отскочил от дороги и разбил ветровое стекло нашего «форда». Осколки стекла попали в глаза Билли, и доктор потом сказал, что он ослеп бы на один глаз или на оба, если бы остался жив. Но он не остался в живых – машина съехала с дороги и врезалась в столб с проводами высокого напряжения. Столб упал прямо на нее, и Билли изжарился подобно тем убийцам, которых казнят на электрическом стуле в тюрьме Синг-Синг. Вот такая судьба выпала па долю парня, ничего плохого не сделавшего в жизни, – разве что притворялся больным, когда нужно было окучивать бобы, – тогда у нас все еще был огород.
Но я утверждал с полной уверенностью, что сломал эту чертову руку после несчастного случая. Клялся чем только мог, будто помню, как присутствовал на его похоронах, а моя рука все еще была в гипсе! Саре пришлось показать мне нашу семейную Библию и затем страховой полис по случаю моей руки, прежде чем я поверил, что все произошло наоборот: я сломал руку за два месяца до этого, и когда мы хоронили Билли, гипс уже сняли. Сара обозвала меня старым дураком, и я чуть не врезал ей как Следует, потому что рассердился, а рассердился я потому, что чувствовал себя смущенным, но по крайней мере у меня хватило здравого смысла понять это и оставить ее в покое. Она очень любила Билла, он был светлым окошком в ее жизни.
– Господи! – воскликнул Клайв. – Это не значит, что я поглупел, нет. Это вроде того, как ты приезжаешь в Нью-Йорк, и там на углах улиц сидят парни с тремя ореховыми скорлупками и шариком под одной из них, и они готовы поспорить, что ты не угадаешь, под какой скорлупкой находится шарик. Ты уверен, что можешь угадать, но они передвигают скорлупки так чертовски быстро, что всякий раз обманывают тебя. Ты теряешь след. Создается впечатление, что это тебе не по силам.
Он вздохнул, оглянулся по сторонам, словно пытаясь вспомнить, где они сейчас находятся. На его лице появилось выражение полной беспомощности, и эта растерянность вызвала отвращение у мальчика и одновременно напугала его. Ему не хотелось испытывать такие чувства, но он ничего не мог с собой поделать. Создавалось впечатление, что дедушка сорвал бинт и показал мальчику язву, симптом чего-то ужасного, чего-то вроде проказы.
– Похоже, что весна началась на прошлой неделе, – сказал дедушка, – но уже завтра все цветки слетят, если ветер останется таким же сильным. Вообще-то непохоже, что ветер стихнет. Когда все развивается так быстро, как сейчас, человеку трудно сохранять нормальный ход мыслей. Человек не может сказать: «Эй, подожди минуту-другую, пока я соберусь с мыслями!» Просто некому сказать. Все равно что находишься в машине без водителя, если ты меня понимаешь.
Как твое мнение, Клайви?
– Насчет одного ты прав, дедушка, – произнес мальчик, – мне кажется, что все это сделано как-то по-дурацки.
Он не хотел, чтобы старик истолковывал его слова как шутку, но дедушка захохотал и смеялся до тех пор, пока его лицо не приобрело ту же тревожно пурпурную окраску. На этот раз он был вынужден не только наклониться и упереться руками о колени, но и обнять одной рукой мальчика за шею, чтобы не упасть. И они упали бы, если бы кашель и хриплый смех дедушки не ослабли как раз в тот момент, когда мальчик уверился, что кровь вот-вот брызнет из сосудов на лице старика, ставшем пурпурным и распухшим от веселья.
– Ну ты и шутник! – сказал дедушка, наконец выпрямляясь. – Настоящий шутник!
– Дедушка?
С вами все в порядке? Может быть, нам лучше…
– Нет, черт побери, со мной не все в порядке. За последние два года у меня было два сердечных приступа, и если я проживу еще два года, никто не удивится этому больше меня самого. Но в этом нет ничего нового для человечества, сынок. Все, что я хотел сказать тебе, заключается в следующем: старый ты или молодой, быстро идет время или медленно, ты проживешь хорошую жизнь, если будешь помнить про этого пони. Потому что, когда ты будешь считать, произнося «мой милый пони», время не может быть ничем, кроме времени. Будешь поступать таким образом – все будет в порядке. Разумеется, ты не можешь все время считать – Бог и не рассчитывал на это. Как бы то ни было, сейчас я пойду по аллее, усаженной примулами, с этим угодливым муравьем Шабандом. Но ты должен помнить, что время не принадлежит тебе – ты принадлежишь времени. Оно движется вместе с тобой с одинаковой скоростью каждую секунду каждого дня. Ему в высшей степени наплевать на тебя, но это не имеет никакого значения, если у тебя твой милый пони. Если у тебя есть такой пони, Клайви, можешь считать, что ты схватил этого ублюдка за яйца, и наплевать тебе на всех Олденов Осгудов в мире.
Старик наклонился к Клайву Баннингу.
– Ты меня понимаешь?
– Нет, сэр.
– Это я знаю. Но ты запомнишь, что я тебе говорил?
– Да, сэр.
Дедушка Баннинг смотрел на него так долго, что мальчик почувствовал себя неловко, им овладело беспокойство. Наконец старик кивнул.