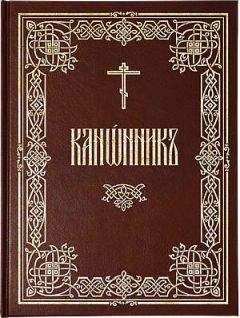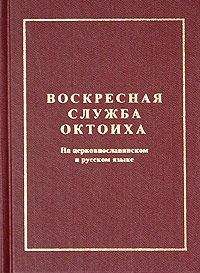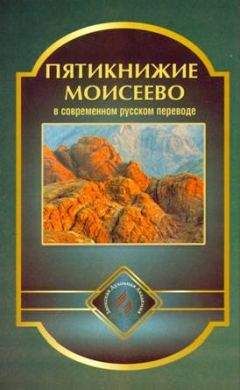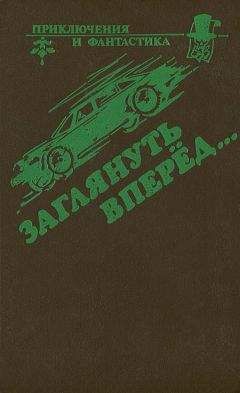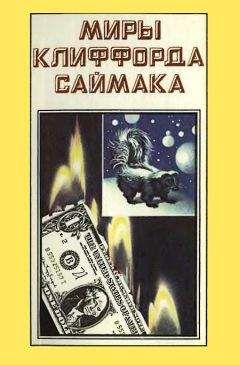назад я зашел в холл посмотреть, не пришла ли почта, и мне показалось, что ты был там.
– И что я делал?
– Вышел на террасу. Но я выглянул и тебя не обнаружил.
Мы ненадолго замолчали, пока Филип вскрывал письма.
– Чертовски интересно, – заметил он. – Кроме тебя и меня здесь есть еще кто-то.
– А что ты еще заметил? – спросил я.
Он усмехнулся и указал на липы.
– Это полная нелепица – смешно и говорить. Только что я видел кусок веревки, который свисал с толстого сука вот на том дереве. Видел совершенно отчетливо, а потом его вдруг не стало.
Философы долго спорили о том, какое из человеческих чувств следует признать самым сильным. Одни говорили, что это любовь, другие – ненависть, третьи – страх. А я бы на один уровень с этими классическими чувствами, если не выше, поставил любопытство, самое простое любопытство. Вне сомнения, в ту минуту оно соперничало в моей душе со страхом – без этого тоже не обошлось.
Пока Филип говорил, в сад вышла горничная с телеграммой в руке. Она протянула телеграмму Филипу, тот молча нацарапал на бланке ответ и вернул горничной.
– Вот досада! – воскликнул он. – Но делать нечего. Пару дней назад я получил письмо и узнал, что, возможно, мне придется вернуться в город, а из телеграммы следует, что этого не избежать. Одному из моих пациентов грозит операция. Я надеялся, что можно будет обойтись без нее, но мой заместитель не берет на себя ответственность принять решение.
Филип взглянул на часы.
– Я успею на ночной поезд, – продолжал он, – и надо бы выехать завтра обратно тоже ночным поездом. Стало быть, здесь я буду послезавтра утром. Ничего не поделаешь. Да! Что мне сейчас очень пригодится, это твой любимый телефон. Я закажу такси в Фалмуте, и тогда с отъездом можно будет потянуть до вечера.
Филип пошел в дом. Я слышал, как он стучит и грохочет там, возясь с телефонным аппаратом. Вскоре он позвал миссис Криддл, а затем возвратился.
– Телефон отключен, – сказал Филип. – Его отключили еще год назад, а аппарат не убрали. Но в деревне, оказывается, можно нанять двуколку, и миссис Криддл уже за ней послала. Если я отправлюсь сейчас, то успею к поезду как раз вовремя. Спайсер уже упаковывает вещи, и еще я прихвачу с собой сандвич.
Он стал пристально всматриваться в подстриженные деревья на насыпи.
– Да, именно там, – произнес Филип. – Я видел совершенно отчетливо, что она там была, и потом ее не стало. Да к тому же еще этот твой телефон.
Тут я рассказал ему о лестнице, которую видел под тем самым деревом, с которого свисала веревка.
– Любопытно, так все это неожиданно, так нелепо. Какая досада, что меня вызвали именно сейчас, когда… когда вещи, пребывавшие в темноте, вот-вот войдут в полосу света. Но, надеюсь, через полтора дня я снова буду здесь. А ты тем временем наблюдай как можно внимательней и в любом случае не выдумывай никаких теорий. Дарвин утверждает где-то, что без теории наблюдение невозможно, но нет ничего опаснее, чем смешивать наблюдение и толкование. Теория, волей-неволей, влияет на воображение, и человек в результате видит и слышит именно то, что вписывается в его теорию. Так что ограничься наблюдением; сделайся фонографом или объективом фотоаппарата.
Вскоре прибыл экипаж, и я проводил Филипа до ворот. «Все, что нам до сих пор являлось, – это фрагменты, – сказал он. – Ты слышал телефонный звонок, я видел веревку. Мы оба видели человеческую фигуру, но в разное время и в разных местах. Все бы отдал, чтобы не уезжать отсюда».
Я бы тоже многое отдал, чтобы он не уезжал, когда после обеда подумал о предстоящем одиноком вечере и обязанности «наблюдать». И объяснялось это чувство не столько научным пылом и стремлением собрать, объективности ради, лишние показания, а более всего страхом перед тем непонятным, что скрывалось до сих пор в безграничной тьме, окружающей узкую сферу человеческого опыта. Пришлось мне, наконец, связать в единую цепочку телефонный звонок, веревку и лестницу, а связующим звеном была та самая человеческая фигура, которую видели мы оба. Мой мозг уже закипал, теории всплывали там пузырьками, но я решил не допустить, чтобы они замутили спокойную поверхность разума; не следовало давать разгуляться воображению: напротив, его нужно было обуздывать.
Поэтому я занялся тем, чем обычно занимаешься в одиночестве. Сначала я сидел на террасе, потом переместился под крышу, потому что стал накрапывать дождик. Ничто не нарушало видимого спокойствия этого вечера, но внутри меня все бурлило от страха и любопытства. Я слышал, как по черной лестнице потихоньку отправились спать слуги, и вскоре последовал их примеру. На мгновение я забыл, что сплю теперь в другой комнате, и подергал ручку двери своей прежней спальни. Дверь была заперта.
Безусловно, на сей раз это было делом рук человеческих, и я тут же решил проникнуть в комнату. Ключа в замке не было – значит, дверь была заперта снаружи. Я пошарил по дверной притолоке – как и рассчитывал, обнаружил там ключ и ступил в комнату.
Она была совершенно пуста, шторы раздвинуты. Оглядевшись, я приблизился к окну. Луна взошла, свет пробивался сквозь облака, и кое-что на улице можно было различить. Вот он, ряд подстриженных деревьев. И тут у меня перехватило дыхание: под одним из суков, в футе или двух, болталось что-то белесое и овальное. Ничего больше разглядеть в полумраке мне не удалось, но в голове у меня тут же начали роиться предположения. Однако, едва показавшись, загадочное видение сразу исчезло и не стало видно ничего, кроме глубокой тени и застывших в неподвижном воздухе деревьев. В ту же секунду я понял, что в комнате я не один.
Я быстро обернулся, но не увидел ничего такого, что подкрепило бы мою уверенность. И все же она не рассеялась. Рядом со мной что-то было, и это невидимое, но очевидное присутствие не нуждалось в доказательствах. Как это ни постыдно, по лбу моему от ужаса заструился пот. Не знаю почему, но я был уверен, что в комнате находится именно та загадочная фигура, которую мы с Филипом сегодня видели в холле, и – хотите верьте, хотите нет – незримая, она внушала мне еще больший ужас. Я знал также, что, по-прежнему не являясь глазу, она приблизилась ко мне, и я со скорбью и ужасом постигаю ее душу, исполненную греха и отчаяния.
На несколько минут или, возможно, секунд, пока длилась эта одержимость, я оцепенел, а потом неведомая сила ослабила хватку, я на трясущихся ногах проковылял к двери, вышел и запер ее на ключ. Закрывая дверь, я уже усмехался, вспоминая свое мимолетное приключение. В