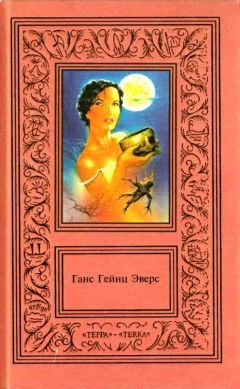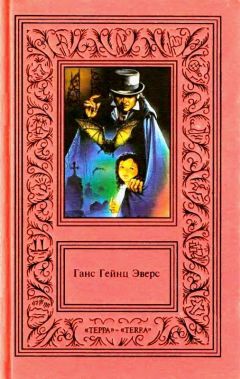Лицо ее стало немного серьезнее, и в голосе слегка зазвучала ироническая угроза.
Il n' y pas la patte,
et ron et ron, petit patapon,
il n' y mis pas la patte,
il y mit le metron.
La bergere en colere,
et ron et ron, petit patapon,
la bergere en colere,
tua son petit chaton.
— Прелестно, — сказал он, — откуда, откуда у тебя эта песенка?
— Из монастыря, — ответила она, — ее пели там сестры.
Он засмеялся:
— Вот как, из монастыря! Удивительно. Спой же до конца, маленькая кузина.
Она вскочила со стула:
— Я кончила. Кошечка умерла — вот и вся песня.
— Не совсем, — ответил он. — Твои благочестивые сестры боялись наказания: у них прелестная пастушка безнаказанно совершает свой грех. Сыграй-ка еще раз: я тебе расскажу, что сталось с ней впоследствии.
Она села опять за рояль и заиграла ту же мелодию. Он запел:
Elle fut a confesse,
et ron et ron, petit pstapon,
elle fut a confesse
pour obtenir pardon.
Mon, pere je m'accusse,
et ron et ron, petit patapon,
mon pere je m'accusse,
d' avour tue mon chaton!
Ma fille, pour penitance,
et ron et ron, petit patapon,
ma fille pour penitance,
nous nous embrasserots!
La penitance est douce,
et ron et ron, petit patapon,
la penitance est douce —
nous recommencerons!
— Все? — спросила она.
— О да, все, — засмеялся он. — Ну, как тебе понравилась мораль, Альрауне?
Он первый раз назвал ее по имени — это бросилось ей в глаза, и она не обратила внимания на сам вопрос.
— Великолепно, — равнодушно ответила она.
— Правда? — воскликнул он. — Превосходная мораль: маленькая девушка не может безнаказанно убивать свою кошечку.
Он стал вплотную перед нею. Он был выше по крайней мере на две головы, и ей приходилось поднимать глаза, чтобы уловить его взгляд. Она думала о том, как все-таки много значат — эти глупые тридцать сантиметров. Ей захотелось быть в мужском костюме: уже одна ее юбка дает ему преимущество, — и в то же время у нее вдруг мелькнула мысль, что ни перед кем другим она не испытывала такого чувства. Но она выпрямилась и слегка тряхнула кудрями.
— Не все пастушки приносят такое покаяние, — сказала она.
Он отпарировал:
— Но и не все духовники отпускают так легко прегрешения.
Она хотела что-то возразить, однако не нашлась. Это ее злило. Она хотела отразить меткий удар, но его манера говорить была для нее так нова, — она, правда, понимала его язык, но сама не умела на нем говорить.
— Спокойной ночи, господин опекун, — поспешно сказала она. — Я иду спать.
— Спокойной ночи, маленькая кузина, — улыбнулся он, — приятных сновидений.
Она поднялась по лестнице. Не побежала, как всегда, а шла медленно и задумчиво. Он не понравился ей, этот кузен, — нет.
Но он злил, возбуждал в ней дух противоречия. «Как-нибудь справимся с ним», — подумала она.
И сказала, когда горничная сняла с нее корсет и подала длинную кружевную сорочку: «Хорошо все-таки, Кате, что он приехал. Все-таки разнообразие». Ее почти радовало, что она проиграла эту аванпостную стычку.
* * *
Франк Браун подолгу совещался с советником юстиции Гонтрамом и адвокатом Манассе. Совещался с председателем опекунского совета и сиротского суда. Много ездил по городу и старался возможно скорее урегулировать дела покойного профессора. Со смертью последнего уголовное преследование, разумеется, прекратилось, но зато градом посыпались всевозможные гражданские иски. Все мелкие торгаши, дрожавшие прежде от одного взгляда его превосходительства, объявились теперь и предъявили свои бесчисленные требования — иногда довольно сомнительного свойства.
— Прокуратуре мы теперь не надоедаем, — заметил старый советник юстиции, — и уголовному департаменту нечего делать. Но зато мы арендовали на долгое время ландсгерихт. Две гражданских камеры на целых полгода стали кабинетом покойного тайного советника.
— Это доставит удовольствие покойному, если только он сможет на нас взглянуть из адова пекла, — сказал адвокат. Такие процессы он очень любил — особенно оптом.
Он засмеялся, когда Франк Браун вручил ему акции Бурбергских рудников, доставшихся по завещанию.
— Вот бы теперь здесь быть старику, — пробурчал он. — Он бы уж над вами посмеялся. Подождите — сейчас вы будете удивлены.
Он взял бумаги и сосчитал их. «Сто восемьдесят тысяч марок, — сказал он, — сто тысяч для вашей матушки, остальное для вас. Ну, так послушайте же». Он снял трубку телефона, позвонил в банк и попросил вызвать одного из директоров.
«Алло, — залаял он. — Это вы, Фридберг? Видите ли, у меня есть несколько бурбергских акций, — за сколько их можно продать?» Из слуховой трубки послышался раскатистый хохот, на который таким же смехом ответил Манассе.
— Я так и думал, — заметил он, — так, значит, ничего, а?! И никаких видов на будущее?! Лучше всего, значит, раздарить весь этот хлам, — но кому? Мошенническое предприятие, которое в скором времени рухнет?! Благодарю вас, господин директор. Простите, что побеспокоил.
Он повесил трубку и с насмешливой улыбкой повернулся к Франку Брауну: «Ну, теперь вы знаете? А сейчас состройте глупую гримасу, на которую рассчитывал ваш гуманный дядюшка, но бумаги оставьте все-таки мне. Может быть, какое-нибудь конкурирующее предприятие возьмет их и заплатит вам несколько сотен марок: мы по крайней мере разопьем тогда бутылку шампанского».
* * *
Наиболее тягостными для Франка Брауна были ежедневные совещания с большим мюльгеймским кредитным обществом. Изо дня в день банк влачил свое жалкое существование, постоянно питая надежду получить от наследников тайного советника хотя бы часть торжественно обещанной субсидии. С героическими усилиями директорам, членам правления и ревизионной комиссии удавалось оттягивать день за днем окончательный крах. Его превосходительство при помощи банка удачно провел чрезвычайно рискованные спекуляции — для него банк был поистине золотым дном. Но новые предприятия, возникшие по его настоянию, все потерпели фиаско, — правда, его
деньги не находились в опасности, но зато пропало все состояние княгини Волконской и многих других богатых людей. И вдобавок еще несчастные гроши множества мелких людей и людишек, зорко следивших за счастливой звездой профессора. Временные душеприказчики тайного советника обещали помощь, насколько это будет зависеть от них, но у советника юстиции Гонтрама закон связывал руки не менее, чем у председателя опекунского совета.
Правда, была единственная возможность — ее придумал Манассе. Объявить совершеннолетней фрейлейн тен-Бринкен. Тогда она может свободно располагать своим состоянием и исполнить моральный долг отца. В расчете на это трудились все заинтересованные лица, в надежде на это люди поддерживали банк последними грошами из собственных карманов. Две недели назад они страшными усилиями отбили нападение на кассы, вызванное паникой в городе, — но во второй раз сделать это было уже немыслимо.