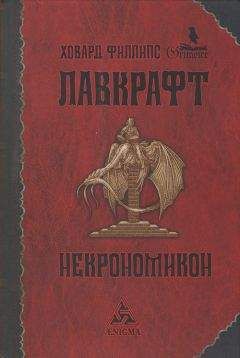Ознакомительная версия.
Обитатели рю д’Осей оказывали на меня странное впечатление. Сперва я думал, это оттого, что все они были нелюдимы и молчаливы, но потом решил, это оттого, что все они очень стары. Не знаю, как меня угораздило поселиться на такой улице, но я был сам не свой, когда переехал туда. Я живал по разным убогим углам, постоянно выдворяемый за неимением денег, пока наконец не напал на ту развалюху, готовую того и гляди рухнуть, содержавшуюся параличным Бландо. Это был третий дом по улице сверху и порядком выше всех остальных.
Моя комната была на пятом этаже; и единственная на весь этаж с постояльцем, поскольку дом почти пустовал. В вечер своего приезда я услышал странную музыку с мансарды под островерхой крышей и на другой день спросил об этом Бландо. Он стал рассказывать, что это старый немец, скрипач-альтист, немой со странностями, подписывающийся именем Эриха Занна; по вечерам он играл в оркестре какого-то дрянного театра, что и послужило причиной его выбора — он жил в высокой на отшибе мансарде, узкое окно которой являлось той единственной на всю улицу точкой, откуда можно было посмотреть поверх замыкающей стены на склон и панораму вдали.
С того времени я слышал Занна каждую ночь, и хотя он не давал мне спать, не мог отделаться от причудливого обаяния его музыки. Не являясь большим знатоком в этом искусстве я тем не менее был уверен, что ни одна из его композиций не имела ничего общего с музыкой, слышанной мною раньше; и заключал, что как композитор он одарен чрезвычайно оригинальным талантом. Чем дольше я слушал, тем сильнее очаровывался, пока неделю спустя не решился свести знакомство со стариком.
Как-то вечером, когда он шел из театра, я перехватил Занна на лестничной площадке, говоря, что хотел бы с ним познакомиться и побыть у него, когда он играет. Он был маленьким, щуплым, сгорбленным человечком, уродливым, как сатир, с голубыми глазами, почти без волос и в обносках; он будто разом был напуган и рассержен первыми же моими словами. Явное мое дружелюбие, однако, в конце концов смягчило его; он нехотя сделал мне знак подниматься за ним под крышу по темной скрипучей лестнице с расшатанными ступеньками. Его комната, одна из двух в мансарде, была на западной стороне и смотрела на высокую стену, замыкающую верхний край улицы. Огромная по размеру, она казалась еще больше из-за неимоверной пустоты и запущенности. Из обстановки была лишь узкая железная лежанка, умывальник в грязных пятнах, столик, объемистый книжный шкаф, железный пюпитр для нот и три старомодных стула. Нотные листы беспорядочно грудились на полу. Стены из голых досок, похоже, не знавали штукатурки; обилие паутины и пыли придавало всему вид заброшенный и отнюдь не жилой. Красота для Эриха Занна явно жила в космических далях воображения.
Усадив меня жестом, немой старик затворил дверь, замкнул массивный деревянный засов и зажег свечу в придачу той, что принес с собой. Потом он извлек скрипку из потраченного футляра и уселся с ней на менее неудобный из стульев. Он не стал устанавливать нот на пюпитре, а, не предлагая мне выбора и играя по памяти, заворожил меня на целый час созвучиями, никогда мною прежде не слыханными, — наверное, его собственного сочинения. Описать в точности их природу невозможно для несведущего в музыке человека. Это была своего рода фуга с повторяющимися пассажами самого чарующего свойства, но для меня более примечательная полным отсутствием нездешних звуковых вибраций, подслушанных мною из моей комнаты.
Те созвучия неотвязно сидели у меня в памяти, и я часто их напевал про себя или неверно насвистывал, так что, когда музыкант наконец опустил смычок, я попросил его исполнить какие-нибудь из них. Стоило мне приступиться к нему с такой просьбой, как с его сморщенного лица сатира слетели скука и безмятежность, написанные на нем во время игры, и опять показалась та удивительная смесь гнева и страха, которую я заметил, когда заговорил со стариком в первый раз. Снисходя к старческим капризам, я готов был взяться его убеждать и даже попытался пробудить в моем хозяине более прихотливый настрой, насвистав некоторые созвучия из слышанных вечером накануне. Но это продолжалось не дольше минуты, ибо как только немой музыкант узнал насвистываемую мелодию, лицо его передернулось выражением, не поддающимся никакому разбору, и худая старческая рука потянулась зажать мне рот. При этом он выказал и дальнейшую свою эксцентричность, боязливо оглядываясь на единственное зашторенное окно, словно страшась некой интрузии — оглядка, вдвойне нелепая, поскольку высокая и недосягаемая мансарда вздымалась надо всеми примыкавшими крышами, превращая окно в ту одну точку на всей крутой улице, откуда было возможно, как сказал мне консьерж, увидеть через стену верхний ее край.
Брошенный стариком взгляд привел мне на ум фразу Бландо, и я решил окинуть взглядом головокружительную и пространную панораму залитых луной крыш и городских огней за вершиной холма, которая — изо всех обитателей рю д’Осей — открывалась лишь этому вздорчивому музыканту. Я двинулся к окну и отвел было в сторону невзрачные шторы, когда с яростью испуга, еще больше прежнего, немой жилец мансарды снова набросился на меня; на сей раз кивая головой на дверь и нервически силясь обеими руками меня к ней подтащить. Я попросил меня отпустить и сказал этому опротивевшему мне человеку, что тотчас уйду. При виде моего отвращения и обиды собственный его гнев, кажется, поутих и хватка его ослабела, когда он вдруг снова за меня ухватился, на сей раз дружеским образом, и усадил на стул; потом, пройдя с тоскливым видом по комнате к захламленному столику, пустился многословно писать карандашом на том вымученном французском, по которому сразу был виден иностранец.
Записка, наконец мне врученная, призывала к терпимости и прощению. Занн писал, что он стар, одинок и страдает странными страхами и нервным расстройством, связанным с музыкой и другими вещами. Он порадовался, что я услышал его игру, и хотел бы, чтобы я снова пришел и не обижался на его эксцентричность. Но свои фантастические созвучия он не может играть ни при ком и не выносит их слышать ни от кого; как не выносит, чтобы кто-то касался чего бы то ни было в его комнате. До нашего разговора в коридоре он не знал, что в моей комнате слышна его игра, и теперь он просит, не уговорюсь ли я с Бландо и не сниму ли комнату ниже, где бы я не слышал его по ночам. Издержки платы, писал Занн, он бы взял на себя.
Пока я сидел, разгадывая его отвратительный французский, мои чувства к старику несколько смягчились. Он был жертвой физических и нервных страданий, как и я сам, а занятия метафизикой преподали мне душевную доброту. В тишине от окна долетел легкий звук — наверное, ночной ветер стукнул ставнем, — но по неизвестной причине я содрогнулся почти так же мучительно, как и Эрих Занн. Итак, дочитав, я простился с хозяином за руку и отбыл как друг.
Ознакомительная версия.