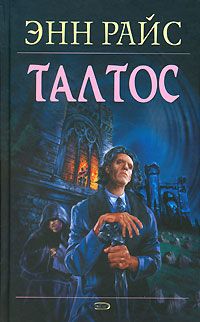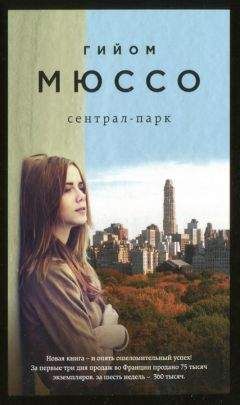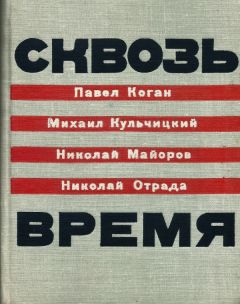— Вы считаете, что они до сих пор здесь? — спросил Пирс с трогательной наивностью.
Благослови, Боже, Мэйфейров, которые никогда их не видели и не верят в них.
— Нет, сынок, — сказал Майкл. — Это просто большой, прекрасный дом, и он ожидает нас. Как и новое поколение, которое грядет.
— Мэйфейры, еще не родившиеся на свет, — прошептала Роуан.
Они только что свернули на Сент-Чарльз-авеню и попали в божественный коридор зелени, дубов, одевшихся в ослепительно яркую весеннюю листву. Мягкий солнечный свет, редкое уличное движение… Прелестные дома, подобно вспышкам света, возникали, один за другим.
«Мой город, дом… Все в порядке, рука Роуан в моей руке».
— Ах, вот и Амелия-стрит, посмотри, — сказал он.
Насколько наряднее выглядел дом Мэйфейров, перестроенный в стиле Сан-Франциско, свежевыкрашенный в персиковый цвет, с белыми наличниками и зелеными ставнями. И исчезли все сорняки. Он чуть не попросил остановиться. Хотелось увидеть Эвелин и Беа, но он понимал, что должен сперва встретиться с Моной, должен увидеть мать с ребенком, пока еще как единое целое. И он должен быть вместе с женой, спокойно поделиться с ней впечатлениями в большой спальне наверху о том, что случилось, об историях, которые они слушали, о странных вещах, увиденных ими… Вещах, о которых они не смогут рассказать никогда и никому за исключением Моны.
А завтра они выйдут из дома и посетят мавзолей, в котором похоронен Эрон, и он должен будет совершить старый ирландский обычай: просто поговорить с Эроном вслух, громко, как если бы Эрон отвечал на его слова А если кому-нибудь эта шутка придется не по душе, что ж, они могут убираться, не так ли? Вся его семья всегда так поступала, его отец ходил на кладбище Святого Иосифа и разговаривал с его бабушкой и дедушкой всякий раз, когда ощущал потребность в таких беседах. А дядя Шамюс, когда болел, говорил своей жене: «Ты тоже сможешь разговаривать со мной, когда я уйду. Единственная проблема состоит в том, что я не буду отвечать тебе».
Снова переменился свет, стало темнее, и разросшиеся деревья, закрывая небо, разделяли его на крошечные сияющие осколки. Садовый квартал, Первая улица. И чудо из чудес: дом на углу Честнат-стрит — среди весенних банановых деревьев, папоротников и цветущих азалий, ожидающий их приезда
— Пирс, ты должен зайти к нам.
— Нет, благодарю, меня ждут в центре города. Вы отдыхайте. Позвоните нам, если понадобится помощь.
Он уже выскользнул, чтобы подать руку Роуан, выходящей из машины. А затем своим ключом открыл и запер за собой калитку и махнул рукой на прощание.
Охранник в форме, прогуливавшийся вдоль боковой ограды, незаметно исчез из виду — наверное, зашел за угол дома.
Молчание излечивало, машина скользнула из света в тень и бесшумно унеслась прочь; умирающий полдень, блестящий и теплый, не оказывал ни малейшего сопротивления. Сладкий аромат олив висел над всем двором. А вечером в воздухе снова распространится запах жасмина.
Эш сказал, что аромат — самый быстродействующий стимул памяти, позволяющий путешествовать в забытые миры. И он оказался совершенно прав. Что будет, если человека лишить всех ароматов, необходимых ему как воздух?
Он открыл переднюю дверь и почувствовал внезапное желание перенести жену через порог. Черт возьми, а почему бы и нет?
Она издала тихий звук крайнего удовольствия, обняв Майкла за шею, когда он подхватил ее на руки.
Самое главное, когда отваживаешься на подобные жесты, не уронить даму.
— А теперь, моя милая, мы снова дома, — прорычал он прямо в ее мягкую шею, снова заставляя ее откинуть голову назад и целуя под подбородком. Запах сладких олив уступил место запаху Эухении: вечно присутствующему запаху воска, старого дерева и чего-то смешанного с запахом плесени, очень дорогого и вдыхаемого с наслаждением
— Аминь! — прошептала Роуан.
Пока он опускал Роуан на пол, она на миг прильнула к нему. Ах, это было приятно! И его стареющее, израненное сердце замерло. Она услышала — разве она могла не услышать своим докторским ухом? Нет, он стоял, крепкий и спокойный, прижимая ее к себе, вдыхая запах ее чистых мягких волос, глядя вниз, на Роуан, на сверкающий холл, и дальше, вдоль громадного, словно парящего в воздухе белого прохода, на виднеющиеся вдалеке стенные росписи столовой, все еще освещенные полуденным солнцем Дома. Здесь. Никогда, никогда ранее они не испытывали ничего подобного.
Наконец она выскользнула из его объятий и встала на ноги. Едва заметная, крошечная морщинка появилась у нее на лбу.
— Все хорошо, милый, — сказала она. — Только некоторые воспоминания тяжко умирают, ты знаешь. Но я думаю об Эше, и над этим стоит поразмыслить больше, чем над всеми остальными печальными событиями.
Он хотел ответить, хотел сказать что-нибудь о своей собственной любви к Эшу и что-то еще, что терзало душу. Но лучше оставить это в покое — вот что посоветовали бы ему другие, если бы он когда-нибудь спросил у них совета. Но он не мог. Он смотрел на нее широко открытыми глазами, и при этом создавалось впечатление, что он сердится, хотя это вовсе не входило в его намерения.
— Роуан, любовь моя, — произнес он, — я понимаю, ты могла бы остаться с ним. Ты сделала выбор.
— Ты — мой мужчина, — срывающимся голосом ответила она. — Мой мужчина, Майкл.
Хорошо бы было отнести ее наверх, но ему уже никогда не справиться с этим, со всеми двадцатью девятью ступенями. Интересно, куда подевались эти юные леди и бабушка, воскресшая из мертвых? Нет, они не могли скрыться от них теперь, если только по какой-то невероятной удаче все племя целиком не отправилось куда-нибудь на ранний обед.
Закрыв глаза, он поцеловал ее снова. Никто не сможет запретить ему делать это по крайней мере дюжину раз. Поцелуй. И когда Майкл снова открыл глаза, в другом конце холла увидел он рыжеволосую красавицу — двух на самом деле, одну из них очень-очень высокую, — и эту вредную Мэри-Джейн, с желтыми косами на макушке: три самые великолепные шеи во всей Вселенной, три молодые девушки, подобные лебедям. Но кто эта новая красавица, невероятно высокая и выглядящая… да, точно как Мона!
Роуан обернулась и внимательно смотрела вниз, в конец вестибюля.
Три грации — так они выглядели на фоне двери в столовую. И казалось, лицо Моны занимает одновременно два совершенно разных места. Это не было некое сходство — это было повторение. И почему они стоят словно застывшие на картине — все трое в хлопчатобумажных платьях, все трое пристально смотрят на гостей.
Он услышал, как Роуан охнула. Он видел, как Мона рванулась и побежала навстречу ему по полированному полу.
— Нет, вы не должны ничего делать. Вы не можете. Вы должны выслушать.
— Боже мой, — сказала Роуан, тяжело прислонившись к нему, дрожа с головы до ног.
— Она мой ребенок, — сказала Мона. — Мой и Майкла, и вы не смеете причинить ей вред.
Внезапно эта фраза поразила его, как с ним часто случалось под стремительным натиском различных событий, навалившихся разом и захватывающих дух. Ребенок? Эта молодая женщина? Гигантская генетическая спираль произвела вот это. Она Талтос, это можно утверждать с полной уверенностью, так же, как Эш — Талтос, как те двое под деревом — тоже Талтосы. Роуан вот-вот готова была потерять сознание и упасть. А сам Майкл чувствовал нестерпимую боль в груди. Он ухватился за перила винтовой лестницы.
— Скажите мне теперь, сейчас же, что никто из вас не собирается причинить ей зло! — кричала Мона.
— Причинить ей зло? Как я могу? — удивился Майкл. Роуан заплакала, бормоча что-то неразборчивое сквозь прижатые ко рту ладони.
Высокая девушка нерешительно сделала шаг, затем другой. А вдруг сейчас раздастся беспомощный голос, тот же детский голос, который он слышал от другой, прежде чем она упала, сраженная выстрелом Он почувствовал головокружение. Солнце померкло, и дом погрузился в сумерки.
— Майкл, сядь здесь — вот сюда, на ступеньку, — сказала Мона.
— О Боже, ему дурно! — воскликнула Мэри-Джейн. Роуан быстро приложила длинные влажные пальцы к его шее.
— Итак, я понимаю, что это страшный шок для вас обоих, — заговорила высокая девушка. — Мама и Мэри-Джейн волновались все эти дни. А я сама чувствую облегчение, увидев вас наконец, и прошу вас принять решение, могу ли я, как говорится, остаться под этой крышей как ваш ребенок и ребенок Моны. Как вы могли заметить, она уже надела мне на шею этот изумруд, но я подчинюсь вашей воле.
Роуан, казалось, утратила дар речи. Как, впрочем, и Майкл. Это был голос Моны, отличавшийся от него лишь тем, что больше походил на голос взрослой женщины и звучал немного слабее, словно она уже получила свою долю обид и неприятностей от мира.
Майкл во все глаза смотрел на стоявшую перед ним девушку — с водопадом ярко-рыжих локонов, с по-взрослому развитой грудью и длинными изящными ногами. Ее глаза пылали зеленым огнем