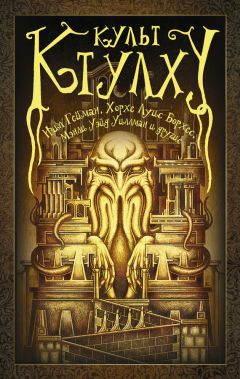Постепенно Эймар по уши погрузился в историю: прошлая литературная жизнь города совершенно захватила его. С особенным удовлетворением он узнал, что в 1844 году Эдгар Аллан По дописывал «Ворона» в фермерском домике, который стоял всего в паре кварталов от его нынешнего жилища, там, где сейчас бежал Бродвей. На старых снимках красовалась белая хижина на деревянном каркасе в тени деревьев, на склоне холма. К концу столетия домик, как водится, снесли, деревья вырубили, а холм сровняли с землей, и только скромная табличка на местном «Спа и Фитнес-Центре» ненавязчиво уведомляла прохожих, что на этом самом месте некогда жил самый прославленный из американских писателей. Эймар среди прочих подписал петицию мэру с просьбой назвать маленький отрезочек 84-й Западной улицы в честь По, а потом строчил сердитые письма в «Таймс», требуя исправить на развешанных повсюду табличках с названием новой улицы безграмотное «Аллен» на нормальное, правильное «Аллан».
Первые несколько лет в Нью-Йорке Эдмунд Эймар тихо гордился, что живет в уже немодном и почти забытом квартале, населенном в основном испаноязычными бедняками. Впрочем, когда город вынырнул, наконец, из периода экономического упадка, благосостояние, будто какая-то вероломная, липкая морская тварь, принялось неуклонно тянуть свои щупальца на север от Линкольн-Центра, жадно проглатывая широкие, ветхие авеню. В поразительно короткие сроки мелкие семейные магазинчики, прачечные самообслуживания и ремонты обуви, этнические бары и общественные клубы, и с ними одинаковые дешевые американские забегаловки уступили место шикарным бутикам и модным ресторанам иностранной кухни. Эймар с отвращением наблюдал, как уродливые двухэтажные коммерческие хибары по сторонам Бродвея под натиском прожорливой строительной лихорадки сдаются жутким высотным многоквартирникам, чьи нищенские близнецы-башенки гротескно обезьянничают изящные оригиналы из Сентрал-Парк-Уэст. Подобно ребенку, слишком рано узнавшему, что это не аист оставил его на грядке под капустным листом, а папа с мамой осуществили грубый физический акт, которому он и обязан своим индивидуальным бытием, Эймар понимал, что стремительное, радикальное развитие архитектурной среды города – не удел далекого прошлого, о котором пишут в учебниках по истории. Нет, оно происходило прямо у него под носом, за углом – только руку протяни.
Разочаровавшись во всем, Эдмунд Эймар еще глубже ушел в свои таинственные, пленяющие воображение исследования. Он переселился в бильярдные и библиотеки почтенных джентльменских клубов, чьи благовоспитанно-узколобые члены все еще чтили старые традиции. Его собственный прапрапрадед самолично основал один такой, атлетического толка, куда, как гласила типичная раздевалочная легенда, привычно ускользал от дел финансовых и семейных. В клубной библиотеке даже сохранился томик его стихов «Дамон, Пифий и Ганимед»: весьма посредственные вирши прославляли мужественные идеалы классической античности. Эймар читал и перечитывал его – вдохновения ради.
Могучий мечтатель с самых младых ногтей, он часто грезил о прошлом Нью-Йорка: ему являлись во сне банды краснокожих, гоняющих скудную дичь по лугам и болотам; комичные голландцы с широкоствольными мушкетами, важно вышагивающие между кирпичными домами со ступенчатыми фронтонами и деревянным забором, который со временем станет Уолл-стрит; бунты черных рабов посреди дыма и пламени; солдатня в красных мундирах, настроенная куда суровее своих голландских предшественников – расквартированная в частных домах и прочесывающая город на предмет незаконного оружия; матросы, теснящиеся на забитых бочками и ящиками верфях на фоне целого леса корабельных мачт; уличные демонстрации с факелами и антипризывными плакатами; мрачный, длиннобородый джентльмен, инспектирующий некий прибрежный склад; другой джентльмен, худощавый и с козлиной бородкой, надзирающий за сооружением гигантского пьедестала на маленьком островке у самого носика Манхэттена; и особенно стройный светловолосый человек с загадочной улыбкой, обращавшийся, казалось, прямо к нему, дразнивший его каким-то смутным, сводящим с ума воспоминанием, обещанием невероятных чудес за пределами обычного человеческого понимания. В этом последнем джентльмене он, пробудившись, с удивлением признал собственного прародителя, пресловутого Джона Маршала Эймара. Предка в его ночных видениях становилось все больше и больше – пока в один прекрасный день, а, точнее говоря, ночь Эймар не сумел разобрать достаточно ясно его слова: выдающийся родоначальник приказывал ему встать, одеться, взять фонарь и отправляться на некую стройку в десяти кварталах от дома, где в куче строительного мусора он найдет кольцо – оловянное кольцо, если быть совсем точным. Не до конца понимая, спит он или уже проснулся, Эймар почему-то послушался и уже очень скоро обнаружил себя блуждающим по одной из многочисленных строек, из-за которых Вест-Сайд нынче подозрительно напоминал Берлин 1945 года. Не особо волнуясь о перспективе быть арестованным за проникновение, он чувствовал, будто его ведет некая сверхъестественная сила и через несколько минут действительно наткнулся на облепленный грязью предмет, который сперва принял за четвертак эпохи до 1965 года. Однако по ближайшем рассмотрении юный кладоискатель, экстатически содрогнувшись (что случается с личностями экзальтированными сплошь и рядом), убедился, что это и есть предмет его поисков. Полбутылки полироли для серебра оказалось достаточно, чтобы у него на ладони заиграло блестящее оловянное колечко, гравированное примитивным растительным орнаментом, с буквами на внутренней стороне, показавшимися ему поначалу какими-то инопланетными иероглифами. Повернув их другой стороной, он, впрочем, разобрал затейливую монограмму – Дж. М.Э.! Заслуженный скептик по части всяческих психических феноменов, Эймар был буквально раздавлен волной эмоций, в которой смешались страх и ликование от такого возмутительно наглядного и поразительного открытия. Он боялся даже гадать, насколько важной могла для него оказаться находка, и только надеялся вскоре прозреть.
Вопрос о сне вообще не стоял, так что остаток ночи он провел, играя с украшением, примеряя его так и эдак – и, в конце концов, решив, что оно идеально садится ему на безымянный палец левой руки.
Разумеется, он пошел в кольце на работу – в арт-галерею близ Мэдисон-авеню, где совсем недавно заделался помощником. Едучи на автобусе через парк, он плавал в таком тумане, что едва замечал, где он и что с ним. А уже усевшись за свой стол и предвкушая обвал давно просроченной, но все еще нуждающейся в ответе корреспонденции, он увидал, как электрическая пишущая машинка на глазах растворяется, обнаруживая под собой не искусственную поверхность «под дерево», а прямо-таки настоящий дуб. Стандартная шариковая ручка, которой он привычно пользовался, прямо у него в руке превратилась в нечто куда тяжелее и элегантнее – в автоматическое перо. Чернильница и песочница как ни в чем не бывало стояли на журнале сделок – где раньше ни одной из них категорически не было. И, разумеется, выглянув из окна третьего этажа, он вместо потока стремительных шумных автомобилей узрел оживленную улицу, по которой неспешно катили во всех направлениях разномастные запряженные лошадьми экипажи. Джентльмены в касторовых шляпах и фраках и уличные торговцы, с густым ирландским акцентом выкликавший свой товар, украшали тротуары. Воздух внезапно стал теплый и зловонный, а тихое жужжание кондиционера куда-то делось.