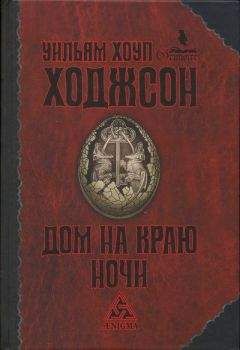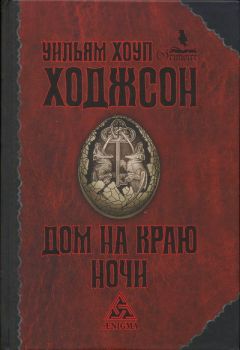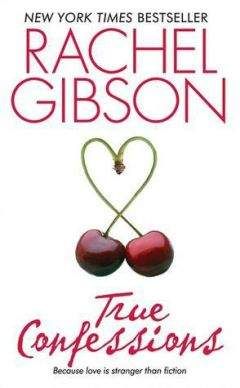Ходжсон, как и Радклифф, не прибегал к нагромождениям ужасов, жуткого, сверхъестественного. Отличительная черта его творческой манеры: создание эффекта напряженности, ожидания, предчувствия ужасного. При этом у Ходжсона нет ощущения ирреальности происходящего — мы видим вместе c героями ужас, который возникает как материалистический, как фактически существующий.
Мы видим у Ходжсона поэтизацию таинственного и ужасного. Нам не показано нечто конкретное, мы лишь ощущаем то, что пугает нас, чувствуем, что изображенный в книге мир насыщен предчувствием ужаса. Зло у Ходжсона не сон, не наваждение, от которого можно проснуться со счастливым осознанием, что то была фата-моргана, а сейчас все жуткое и кошмарное закончилось. Зло есть реальность жизни, оно растворено в повседневности. Оно подстерегает человека везде и всегда, когда же нападет — неизвестно. Ходжсон говорит не просто о влиянии темных злых сил на человека, но о бессилии его перед ужасом, приходящим неизвестно откуда, ужасом, разлитым в мире.
У Ходжсона нет осмысления зла: оно слишком быстро, слишком неожиданно вторгается в человеческую жизнь, и у героя нет ни времени, ни сил (духовных ли, физических ли) осмыслить это, дай бог выдержать натиск и остаться в живых. И герой Ходжсона, как герой готического романа, обречен: «…смерть, притаившись, ожидает его посреди жизни: и ничто человеческое — ни силы рассудка, ни упорство добродетели — не может защитить его от неведомой и коварной судьбы».[62]
Примечательно, что герои Ходжсона не молятся, не взывают к высшим силам с просьбой о защите (лишь несколько раз обращаются к Господу в «Путешествие шлюпок с „Глен Карриг“» и однажды — в «Доме на краю»). Это выглядит еще более поразительно в сравнении с тем, как ведет себя в драматических обстоятельствах герой Дефо. У этих людей нет веры? она не нужна им? они изверились? Ответов нет — есть реальность. Сталкиваясь с ужасом, герои рассчитывают только на себя самих — или же обреченно ждут конца.
Читать Ходжсона непросто, а для впечатлительных людей на ночь вообще небезопасно. Но это чтение интереснейшее, увлекательнейшее, обладает сильным эмоциональным воздействием на читателя.
Ведь, по сути дела, зло, изображаемое Ходжсоном, есть отражение душевных противоречий человека, его терзаний и метаний, тех бездн, что таит человеческая душа. Одно из главных заслуг Ходжсона в том, что он говорит нам о сущности человеческой психики, о раздвоенности сознания, о невозможности свести все в жизни к линейной оппозиции добра и зла, о неоднозначности и самого человека, и всего, что с ним происходит. Все это помогает нам не просто лучше понять себя, свою душу, но подготовиться к тем драматическим изменениям, которые могут случиться — бог весть когда: завтра? через год? — и с нами.
Потому — повторим слова Вальтера Скотта, обращенные к основоположнику готического романа, Хорэсу Уолполу: «Мы не можем не принести дани нашей признательности тому, кто умеет вызвать в нас столь сильные чувства, как страх и сострадание».[63]
В. Гопман
«Путешествие шлюпок с „Глен Карриг“»
Роман
Перевод осуществлен по изданию: William Hope Hodgson. The Boats of the Glen Carrig. Sphere, USA, 1982
Сей документ представляет собой полный отчет о странствиях по удивительным и странным уголкам Земли спасательных шлюпок с доброго парусника «Глен Карриг», затонувшего в дальних южных морях после удара о подводные скалы. Записано без изъятий со слов достопочтенного Джона Уинтерстроу, эсквайра, его сыном Джеймсом Уинтерстроу в году 1757 от Рождества Христова.
Уильям Хоуп Ходжсон, 1907 MADRE MIA[64]
Пусть скажут — ты давно немолода,
А для меня еще вчера была ты юной;
В то незабытое вчера,
Что до сих пор со мной в моих мечтах.
Ах, пролетели над тобой года,
Взметнувшись покрывалом серым, мягким.
Но не увяли милые черты,
Бессильна дней ушедших череда.
В твоих косах не блещет седина,
И щек твоих не тронули морщины,
И бремя лет не омрачает взгляд,
Спокойный, как безветренный закат,
И чистый, словно золото молитвы.
Долгих пять дней мы шли в спасательных шлюпках, но так и не достигли суши. Лишь утром шестого дня услыхали крик плывшего во второй шлюпке боцмана, который заприметил слева по курсу какую-то темную полосу; это могла быть и долгожданная земля, но она выглядела такой узкой, что никто из нас не мог сказать наверняка, была ли то суша или повисшее над самой водой утреннее облако. Все же вид этой темной полоски внушил нам надежду, и мы вновь взялись за весла, хотя и были сверх всякой меры утомлены пятидневными скитаниями в бурном море; примерно час мы гребли, пока не убедились, что перед нами действительно низменный берег неведомой страны.
Немногим позже полудня мы подошли к берегу достаточно близко, чтобы разглядеть, что представляет собой земля, к которой мы правили. Это оказалась унылая, совершенно плоская и голая равнина, одним своим видом нагонявшая тоску. Лишь кое-где торчали пучки странной растительности, но я не мог сказать, были ли это маленькие деревья или большие кусты; одно мне известно наверняка — ничего похожего я еще никогда в жизни не видел.
Все это я рассмотрел, пока мы медленно шли на веслах вдоль побережья, ища бухту или залив, которые позволили бы нам проникнуть в глубь этой странной земли; прошло, однако, немало времени, прежде чем мы обнаружили то, что искали. То был ручей с низкими, илистыми берегами, оказавшийся впоследствии одним из протоков или рукавов в дельте большой реки, однако между собой мы продолжали называть его ручьем. Продвигаясь вдоль его извилистого русла, мы внимательно оглядывали отлогие, заболоченные берега в надежде отыскать подходящее место для высадки, но тщетно: берега по обеим сторонам представляли собой полосы отвратительной полужидкой грязи, к которой не хотелось даже прикасаться, несмотря на то, что никто из нас давно не ощущал под ногами твердой земли.
Поднявшись по течению примерно на милю, мы наконец увидели вблизи те странные растения, которые я заметил, когда мы только подходили к этой странной земле с моря; теперь, когда до них был всего десяток-другой ярдов, мы могли рассмотреть их гораздо лучше, и я убедился, что это были скорее деревья, чем кусты, но весьма отталкивающего вида: низкорослые, с корявым коротким стволом, они производили впечатление чего-то нездорового, болезненного, почти нечестивого. В отличие от стволов, ветви странных деревьев были тонкими и гладкими; почти по всей длине они имели одинаковую толщину и свисали от макушки до самой земли (вероятно, поэтому я не сумел отличить эти деревья от кустарников, пока не оказался в непосредственной близости от них); при этом каждую ветвь отягощал единственный крупный плод, росший на самом конце ее и напоминавший своей формой растрепанный капустный кочан.