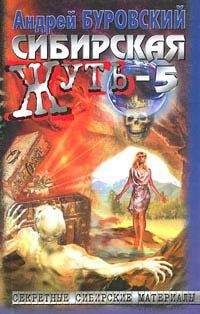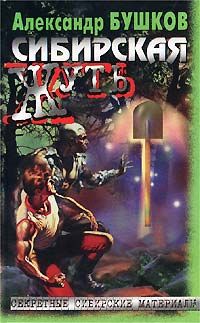Погружаясь в бездонные перины, доцент и сам толком не знал, чего он хочет. По крайней мере, чего он хочет в большей степени: чтобы Матрена увлеклась им и пришла к нему или чтобы она держалась от Хипони за тысячу верст…
Доцент еще предавался этим размышлениям, как в двери мелькнуло что-то белое… Он и испугаться не успел, как Матрена навалилась на доцента, да так, что он не в силах был даже и пикнуть! Жаркая, невероятно тяжелая, Матрена впилась в рот Хипони исключающим сопротивление поцелуем, а ее руки совершали действия, от которых Хипоня понял раз и навсегда ответ на старый сексуально-теоретический разговор — можно ли изнасиловать мужчину?! Был момент, когда он рванулся, отталкивая ладонями исполинские груди, выдирая рот и нос из складок тела — лишь бы дали втянуть воздуха!
Неуловимым, неуклюже-грациозным движением не дала Матрена совсем задохнуться Хипоне, но и не отпускала его до того, как под тоненькие «ай-яй-яй!» не забился Хипоня в пароксизме самому ему не очень понятных состояний, не засучил бледными мохнатыми ногами.
Не раз и не два получал Хипоня в эту ночь подтверждение бессмертной истины: да, мужчину вполне можно изнасиловать! И только под утро Хипоня остался один. Голова у бедняги кружилась, при попытке дойти до уборной темнело в глазах, дрожали ноги в коленках. К счастью, никто не требовал от него трудов на злополучном огороде, и доцент продрых почти до самого обеда, когда мадам Вздохова, обдав его лучистым взором, накормила его «от пуза» борщом и салатом. Сама мадам, кстати сказать, весь день порхала по лавке, как птичка, осчастливливая покупателей веселым смехом, визгом и гортанными вскриками… Если можно, конечно, представить себе птичку весом в сто двадцать килограммов.
А повторение оказалось таково, что совсем затосковал доцент, справедливо полагая ночную повинность куда тяжелее дневной, и начал считать, загибая пальцы, когда же Бздыхова поедет за товаром…
…Откуда было знать Хипоне, что еще долго, очень долго суждено ему жить в Малой Речке! Что при попытке заводить разговор об отъезде… даже о поездке ненадолго Матрена будет пронзительно рыдать, вовсю завывая и ухая, выть как гиена и швыряться разными предметами? Что при попытке сбежать его будут ловить по всем правилам индейских следопытов, а потом бить по морде, оглашая лес жуткими рыданиями?
Конечно же, никому и в голову не придет взять с собой доцента в Абакан, и даже более того… У доцента Хипони будут отнимать штаны при уходе к соседке и запирать его, приставляя к дому охрану, при отъезде в город за товаром. У него будет трудная жизнь.
Впрочем, это безобразие будет длиться долго — несколько месяцев, но не бесконечно — ровно до того момента, пока доцент не станет папой устрашающего местного младенца и не будет вынужден жениться… Тогда уже он начнет показывать зубки, порой поколачивать Матрену, и тихие Саянские горы начнут сотрясаться от рыданий по совсем другому поводу — по причине органической, утробной неспособности Хипони соблюсти хотя бы видимость супружеской верности… Но скажем честно и откровенно — Матрена и тогда останется совершенно, прямо-таки неправдоподобно счастлива. Доцент Хипоня, ставший чьим-то супружеским счастьем! Это же подумать только…
Но нам пора вернуться в этот день, 23 августа 1999 года. Вечером Галя Покойник зашла к Динихтису. Ни одно окно не горело.
Выла цепная собака: ее с утра так никто и не выпустил из будки. Динихтис сидел где-то там, в темной пустоте своего дома.
— Сережа, ты где?!
Вроде, какое-то бормотание? Галина двинулась вперед, нашла глазами черный силуэт на диване, щелкнула выключателем.
— Сережа… Эй, Сережа!
— Не вернется… — Динихтис поднял на Галину совершенно пустые глаза без зрачков.
— Сережа. Я тебе поесть принесла.
— Не вернется…
— Сядь поешь, Сережа.
— Не вернется…
— Да встань ты! Хватит раскисать!
— Не вернется…
— И пусть не возвращается! Тоже мне, сокровище нашлось, соплячка дурная! Юлька в сто раз лучше. Она тебя еще и пожалеет, вот увидишь. Ну, давай садись ешь!
Дико и тупо уставился Динихтис на Галину, и ее опять поразил этот пустой, совершенно бессмысленный взгляд.
— Не вернется…
Еще раз забежав вперед, могу сообщить — не вернулась.
14 сентября 1999 года
— Придут уважаемые люди! Сама понимаешь, надо быть…
— Меня от них тошнит, от уважаемых.
— Ирка! Тошнит, не тошнит, а положение обязывает!
— Да-да… Ветераны придут к ветерану…
— Ирина, ты-то от этих людей ничего плохого не видала. И кого поминать будут, не забыла? Дедушку придут поминать, не кого-нибудь.
— Ох, меня, кажется, и от него уже тошнит…
— Ирина! Как ты смеешь, дрянь! Дедушка тебя любил! Клад тебе завещал, а ты… Вот я…
И Ревмира Владимировна застыла с блюдом заливного, буквально не зная, что делать. Пороть — поздно. Надавать дочери по морде? Не поможет… Теперь-то уже точно не поможет. Ревмира не решалась спросить, стала ли Ирина женщиной в ее путешествиях, но очень грешила на Павла… Подельщики дедушки представили ей такой материал на его папу, такие смачные подробности, что мысль о яблочке и яблоньке приходила в голову сама собой, безо всяких усилий воли. Ревмире было приятно думать, что причина спокойной непокорности дочери — простенькая, физиологическая.
— Мама… Я эту коробочку с золотом так и не открывала, она лежит в верхнем ящике стола. Ты забери ее, а? Мне это золото не нужно.
— Ну вот…
— Мама, не лей заливное! Давай я поставлю на стол. Я не шучу, понимаешь?
— Ира… Ой, ну сколько всего было, а, и вдруг…
— Не вдруг. И давай не будем, честное слово… Не хочу я этого золота… не хочу — и весь сказ!
— Тогда давай потом подумаем… Может… может, мы потом квартиру тебе?
— Не надо, мама, я не возьму. Я долго думала, ты со мной лучше не спорь. И вообще… давай так: я сейчас гулять пойду, посижу у подруги, а?! Чтобы без обид, мама, но я не хочу. А золото потом возьми.
Ирина сама не знала, что решение само проросло в ней, просто ей нужен был толчок. Четыре поколения… Она — только третье. Да и просто не хотелось ей, до невозможности не хотелось иметь что-то общее со всем этим — фотографиями неизвестно откуда, из каких мест, урановыми рудниками, скелетами, поиском папочек, погаными тайнами и погаными делами вокруг.
Уже на улице неудержимо потянуло вдруг Ирку туда, где она не была почти месяц: начало занятий, дела… да и поганая улыбка Михалыча, и молчаливое согласие Павла с отцом, и последний вечер в Малой Речке, чувство отстраненности ото всего, что было миром Михалыча, миром Павла и таких, как он. Раза два Ира звонила ему, и бабушка отвечала: мол, ушел к товарищу, по компьютерным делам… Что-то подсказывало Ирине, что Павел не врет, не подставил бабушку, чтобы от нее отделаться… Но ведь и он сам не звонил. Что делать, у нее своя судьба! Но так необходимо стало вдруг Ирине как раз то, что было в доме у Михалыча, и совсем не было у нее — спокойное, уверенное ощущение непричастности.