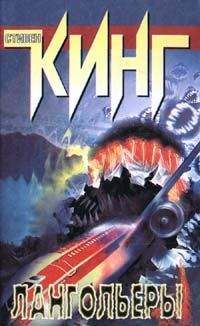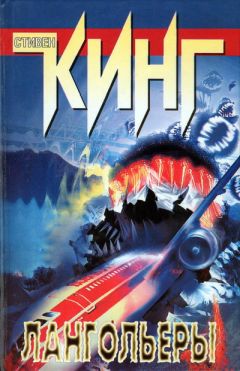Поэтому Дайна промолчала.
Лорел поцеловала девочку в щеку. Кожа под ее губами была горячей.
— Ты не бойся, маленькая. Мы летим нормально — сама ведь чувствуешь, верно? Через несколько часов будем снова на земле.
— Это хорошо. Но только я хочу мою тетю Викки. А где она, как ты думаешь?
— Не знаю, детка, — ответила Лорел. — Сама хотела бы знать.
Дайна снова подумала о лицах, которые видел крикливый человек: такие злые, жестокие морды. Вспомнила и свое лицо его глазами: поросячья морда, спрятанная за большими черными очками. Вот тогда и дрогнула вся ее смелость, она заплакала, истерично всхлипывая, задев Лорел за живое. Лорел обняла ее, поскольку ничего иного не могла придумать, чтобы успокоить, но при этом и сама заплакала. Минут пять плакали вместе, потом Дайна начала успокаиваться. Лорел посмотрела на худого подростка, которого звали не то Альберт, не то Элвин, и заметила, что и у того глаза были мокрыми. Заметив ее взгляд, он торопливо отвернулся и начал рассматривать свои руки.
Дайна в последний раз судорожно всхлипнула и положила голову на грудь Лорел.
— Слезами горю не поможешь, верно? — сказала она.
— Я тоже так думаю, — отозвалась Лорел. — А почему бы тебе не поспать, Дайна?
Девочка вздохнула — такой одинокий, несчастный звук.
— Наверно, не смогу. Я ведь уже спала.
А рейс № 29 продолжал свой полет к востоку на высоте 36 000 футов со скоростью свыше 500 миль в час над черными равнинами Америки.
Метод дедукции. — Аварии и статистика. — Вероятные объяснения. — Давление в подводных трещинах. — Проблема Бетани. — Начинается приземление.
— А вы знаете, эта девочка сказала нечто весьма любопытное примерно час тому назад, — неожиданно произнес Дженкинс.
Девочка, о которой шла речь, снова спала, несмотря на свои сомнения. Альберт Косснер тоже клевал носом, надеясь еще разок вернуться на мифические улицы полуденного Томбстона. Скрипку в чехле он вытащил из верхней багажной секции и положил себе на колени.
— М-мм? — встрепенулся он.
— Извини, — сказал Дженкинс. — Я тебя кажется разбудил?
— Нет, нет, — заверил его Альберт. — Во всю бодрствую.
Он обратил на Дженкинса свои воспаленные глаза в знак доказательства. Под глазами пролегли тени. Дженкинсу он напомнил енота, которого напугали, когда тот копался в мусорном баке. — Чего она сказала?
— Она сказала мисс Стивенсон, что вряд ли уснет, поскольку уже поспала. До того.
Альберт некоторое время непонимающе смотрел на Дайну.
— Ну, вот она опять спит, — сказал он.
— Я вижу. Но дело не в этом, мой мальчик. Совсем не в этом.
Альберт подумал было сообщить мистеру Дженкинсу, что Туз Косснер — самый ловкий еврей к западу от Миссисипи и единственный техасец, выживший после сражения при Аламо, вовсе не «мой мальчик», но решил пропустить это мимо ушей… пока хотя бы. — Ну, и в чем тут дело?
— Я тоже спал. Заснул буквально до того, как капитан — наш первоначальный капитан — включил сигнал НЕ КУРИТЬ. У меня всегда так. Поезда, автобусы, самолеты — только заведут мотор, я тут же отключаюсь. А как у тебя, мой дорогой?
— Что у меня?
— Ну, тоже засыпаешь? Ты ведь спал, верно?
— Ну спал.
— Мы все спали, понимаешь? Исчезнувшие люди не спали.
Альберт немного подумал над странной идеей.
— Пожалуй… может быть.
— А я тебе говорю, что мы вот тут — все спали. Люди, которые исчезли, все бодрствовали.
Альберт снова обдумал его слова.
— Вообще-то, может быть.
— Для меня это пустяк, — почти благодушно сказал Дженкинс. — Я фантазирую в своих книгах ради куска хлеба. Дедукция — мой хлеб с маслом, если можно так выразиться. Ну сам подумай. Если кто-то бодрствует в тот момент, когда люди исчезают, уж наверняка закричал бы что-нибудь об убийстве, разбудив всех нас. Верно?
— Пожалуй, что и так, — согласился Альберт в задумчивости. — За исключением того человека на заднем сиденье. Его и воздушный налет не разбудит.
— Прекрасно. Твое исключение учтено. Но ведь никто не закричал, верно я говорю? И ни один из нас не знает, что произошло. Отсюда методом дедукции делаю вывод, что исчезли только бодрствовавшие пассажиры. Разумеется, с экипажем.
— Да. Может быть.
— Мой мальчик, я вижу — ты встревожен. По лицу вижу, что такая идея, несмотря на всю ее логичность, у тебя в голове не укладывается. Могу я спросить — почему? Что-нибудь я упустил? — Выражение лица Дженкинса говорило о том, что он в подобную возможность не верит, но что матушка воспитала его вежливым человеком.
— Я просто не знаю, — признался Альберт. — Сколько нас тут? Одиннадцать?
— Да. Считая того человека в заднем ряду, который пребывает в коматозном состоянии, нас одиннадцать.
— Если вы правы, не должно ли нас быть несколько больше?
— А почему, собственно?
Но Альберт умолк, внезапно живо вспомнив картину своего детства. Он был взращен в некоей теоретизированной сумеречной зоне родителями, которые не были ортодоксами, но и не были агностиками. Он и его братья росли, соблюдая большинство традиций (или законов, предписаний или как они там еще называются). Они отмечали Бар Мицвах, воспитывались на познании того, кто они, откуда пришли и что это могло для них означать. История, которую Альберт лучше всего запомнил в детстве после посещений храма, касалась последней чумы, постигшей фараона, — мрачного дара Ангела Смерти Господня, явившегося утром.
Мысленно он представил себе этого ангела летящим не над землей Египетской, а через рейс № 29 и прибирающим в страшное лоно свое большинство пассажиров… не потому, что они позабыли окропить трапезу свою кровью агнца (или спинки своих кресел), а потому… потому…
«Почему? Потому — что?»
Ответа не было, и Альберт ощутил дрожь. И еще пожалел, что эта старая зловещая история пришла ему в голову.
«Мы летим, ковыляя, во мгле», — вспомнил он.
Но ничего смешного в этом не было.
— Альберт? — Голос мистера Дженкинса доносился словно издалека. — Альберт, с тобой все в порядке?
— А, да… Я задумался вдруг. — Он прочистил горло. — Если все спавшие остались здесь, то нас было бы по меньшей мере человек шестьдесят. Может, больше… Вы знаете, что такие рейсы называют «красный глаз»?..
— Дорогой мальчик, тебе не доводилось?..
— Вы не могли бы называть меня Альбертом, мистер Дженкинс? Так меня зовут.
Дженкинс слегка похлопал Альберта по плечу.
— Прости. Честное слово. Я не имел в виду разговаривать свысока. Я, видишь ли, расстроен, а когда расстраиваюсь, я обычно отступаю, ну, вроде черепахи, которая прячет голову в панцирь. Только я отступаю в фантазии. Я словно играю в Фило Вэнса. Он был сыщиком — великим сыщиком, созданным покойным Ван Дайном. Ты, наверно, и не читал такого. Да и вряд ли кто-нибудь его читал в наши дни. А жаль. Короче, в любом случае я приношу извинения.