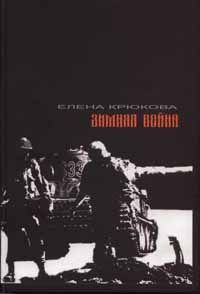Ознакомительная версия.
Она прислонила его к своим коленям, теплым, таким родным под падающей вниз, на снег, мешковиной. Он прижался к женским ногам, вздохнул прерывисто, как после плача, притих. Ковырял пальцем галошку, напяленную на катанку. Косился на чудесную босую колдунью.
– У тебя мамка-то есть?.. Отвечай быстро…
Он замешкался, промямлил, и она приняла молчанье и бормотанье за тайну, за стыд.
– Ну, ну… Только ты не плачь… Я куплю тебе калач… – Вскинулась, ухватила его за разрумяненную на морозе щечку, повернула его личико к себе. – А что!.. Юргенс!.. а Юргенс!.. будь моим сынком!.. вот ништо говорю… вот голову пускай с меня снимут… – Задыхалась. Крупные слезы потекли по щекам, втекали прямо в разверстую пропасть белой снеговой улыбки. – Будешь?.. Не молчи… быстро соглашайся… а то я передумаю… Я, знаешь, какая мать тебе буду… лучшая из матерей…
Дурочка прижимала огольца к себе все крепче и плакала уже громко, в голос, и улыбка, как замороженная, не сходила зимней печатью с ее лица.
– Я на каторге была, доченьку там родила… да доченька умерла… Я сама-то умерла, да вот видишь, ожила!.. Для чего я ожила – для Царствованья… Видишь, царю… а заплатить пришлось, ой, дорого… Ой, нутро из меня вынают, как припомню все… Да и зачем память… у человека же нет памяти… у человека есть только этот день, и яркое Солнце, и весь рынок перед ним – делай что хочешь!.. гранаты по снегу катай… ломай сливок мерзлый каравай…
Черноглазый скуластый узкоглазый пацан, задрав голову, восхищенно глядел на умалишенную великого Иркутского рынка.
– Ах, милый мальчик, родной, маленький мой, я так мечтала всегда… я так за тобой ухаживать буду, по-Царски… Я тебя, мальчонка, буду облепихой кормить… из руки… как лошадку… любишь лошадок?.. Мы поедем кататься на лошадках… на породистых лошадях… запряжем их цугом, а можно и тройкой… прицепим карету… катался в каретах когда-нибудь?.. нет?.. и поскачем, и потрюхаем вдаль по снежному Восточному Тракту, прямо на Байкал, на милое Озеро… и я буду прятать руки в муфточку… в соболиную маленькую муфточку… а ты будешь сидеть у меня на коленях… глядеть в решетчатое окошко… и потом мы вылезем на берег… и я покажу тебе синюю воду Байкала… она прозрачная… такая чистая… как Глаз Бога… как синий камень в моей утерянной короне… я ведь Царица, милый сынок мой… ты ведь не знаешь… я ведь Царица… только здесь, в этом мире людском, меня никто слушать не хочет… я для них – снег, метель… фыркнет и мимо пронесет… засыплет с ног до головы… стрехи, карнизы, скаты крыш укроет белым пологом, саваном… как доченьку мою… там… далеко… не дай Бог тебе туда попасть… все забудешь… радость… мамку… имя свое… кровь свою… кровь твоя прольется на снег… и за тобой не пойдут, чтобы шлейф шубки твоей горностаевой подобрать… чтобы перед тобой на снегу ковер бухарский расстелить… а ты идешь не в сапожках, мехом отороченных, а босая… и им это странно… им это дико… они на тебя пялятся… они тебя ловят… чтобы упечь в тюрьму… за решетку… в больницу… туда, где тебе скрутят руки… свяжут тебя ремнями… обвернут мокрой простыней, рукавами черной рубахи… длинной, длинной, как жизнь… как бедная, голодная Царская жизнь… О мальчик мой!.. если б ты только знал… если б знал… не оставляй меня… не покидай… не убегай!..
Она прижимала к себе пацаненка все сильней, все больнее, она вытаскивала из кармана горсть мятой, давленой облепихи и совала ему в рот, чтоб он поел ягод, и мазала ему ягодным желтым соком щеки и подбородок, и он поводил плечом, пытаясь вырваться и закричать, да так и застыл изумленно, с открытым ртом: прямо перед его глазами в его плечико, в его мохнатую шубейку вцепилась худая, костлявая рука, и мальчишка глядел неотрывно, потрясенно, как горели на руке нищенки Царские перстни – жестко ограненный рубин, медовый топаз, вправленный в серебро, изумруд-кабошон в тонком золотом кольце, – должно быть, она украла их где-то, там, куда ее из жалости пустили ночевать!.. – а там, где у человеков гнулся и дрожал слабый безымянный палец, предназначенный для того лишь, чтоб носить на нем золотое обручальное колечко, не было ничего: пустота зияла там, обрубленная, отрезанная от жизни пустота.
А лицо дурочки-нищенки всходило, как Солнце, восходило, сияло над пустотою, над сизой белизной мира, над черными разрывами Войны, над всеми путями, ведущими в никуда, и всеми озерами, плачущими в черепе земли яростной властной синевою; и рынок гремел и гудел, и гомонил, и клокотал, и выкликал тысячу ласковых слов и тысячу отборных ругательств, и мальчик взял нищенку за беспалую руку, пытаясь пожалеть и утешить, желая согреть ее пожатьем своей маленькой неловкой руки, и она ответила на его пожатье, и слезы текли по ее улыбающемуся вечно лицу, стекали и падали на лицо мальчика, румяное под козьей теплой шапкой.
И они были так счастливы оба на свете, ведь они были нужны друг другу, ведь они держали друг друга за руки и любили.
А кто они были такие? Они не знали. Разве дано это знать детям. Разве дано это знать дуракам.
Разве дано знать миру, погрязшему, увязшему по шею в вечной Зимней Войне, кто он такой. Мир! – и все. Таким его Бог сотворил. На счастье Себе?.. На горе?.. И Он того не знал. Он творил – и все. Создавал – и делу конец.
И мальчик, сжимая беспалую женскую руку, наклонил личико, посеченное снегом, и поцеловал красную от холода дурочкину ладонь – так, как целовал жених руку Цесаревны-невесты, как целует истово верующий светящийся золотом угол намоленной теплой иконы; так, как мужчина целует ладонь женщины, навсегда, до конца им любимой.
Осень – зима 1991, Москва – Малаховка – Ялта – Москва; март —
июнь 1999, Нижний Новгород – Москва – Кострома.
Ознакомительная версия.