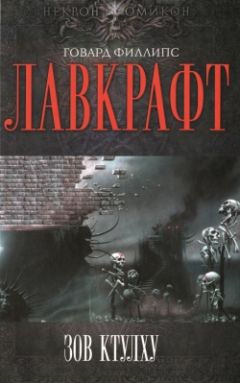Такие причудливые вымыслы, которые в менее искусных руках выглядели бы просто нелепыми, силой волшебного гения По претворяются в живые и достоверные кошмары, способные преследовать нас по ночам, — и все потому, что автор в совершенстве овладел механизмом воздействия страшного и чудесного на человеческую психику. Какие именно детали подчеркнуть, какие несоответствия и странности выбрать в качестве обстоятельств, предваряющих или сопровождающих ужасы; какие на первый взгляд невинные эпизоды и намеки предпослать в качестве символов или предзнаменований каждому значительному шагу на пути к грозной развязке? Тонкая регулировка и выверка всех элементов, из которых строится общее впечатление, и непогрешимая точность в подгонке отдельных частей как условие сохранения безукоризненного единства и цельности повествования и достижения требуемого эффекта в критический момент; тщательный подбор оттенков фона и деталей пейзажа для создания и поддержания желаемого настроения и придания достоверности жуткой иллюзии — именно По разработал и впервые применил эти и десятки других принципов и приемов, зачастую слишком тонких и неуловимых, чтобы их мог сформулировать или хотя бы в полной мере уяснить рядовой комментатор текста. Пусть По были присущи рисовка и некоторая наивность (рассказывают, что один привередливый француз мог читать По только в изысканном и, пожалуй, даже слишком французском переводе Бодлера), но все эти недостатки исчезают без следа в свете могучего природного дара воплощения призрачного, болезненного и ужасного. Дара, определившего все творческое мышление художника и оставившего на его сумрачном наследии неизгладимый след гения высшего порядка. Сверхъестественные вымыслы По в некотором смысле реальны — качество, которое встречается крайне редко.
Подобно большинству романтиков, По умел развивать сюжет и добиваться крупных повествовательных эффектов, но разработка характеров была его слабым местом. Типичный герой его произведений — это, как правило, смуглый, красивый, гордый, меланхолический, умный, тонкий, впечатлительный, своенравный, склонный к самоанализу, замкнутый и временами слегка тронутый умом джентльмен знатного происхождения и с большим состоянием; ко всему прочему, он обычно обладает глубокими познаниями в какой-нибудь тайной науке и лелеет мечту постичь сокровенные секреты мироздания. Если не считать звучного имени, в нем почти ничего нет от персонажей раннего готического романа; он абсолютно не похож ни на статичного героя, ни на демонического злодея в романах Радклиф или французских авторов. Косвенно, однако, в нем угадываются кое-какие традиционные черты, ибо от мрачных, честолюбивых и нелюдимых качеств его характера сильно отдает байроническим типажом, который, в свою очередь, является прямым потомком готических Манфредов, Монтони и Амброзио. Более конкретные черты этого типа, судя по всему, заимствованы По у самого себя, ибо автор бесспорно обладал теми сумрачностью, впечатлительностью, желчностью, склонностью к уединению и капризными причудами, которыми он наделяет своих героев — надменных и бесконечно одиноких жертв Рока.
8
Литература ужасов в американском варианте
Публике, для которой писал По и которая осталась преступно глуха к его искусству, было отнюдь не привыкать к тем ужасам, что его породили. Америка помимо традиционного багажа мрачного фольклора, унаследованного ею от Европы, обладала дополнительным источником мифологии, связанной с потусторонним миром, и жуткие предания и легенды задолго до По были признаны благодатным материалом для литературного творчества. Чарльз Брокден Браун, сочинявший романы в духе Радклиф, пользовался поистине феноменальной славой, да и произведения Вашингтона Ирвинга при всем их легкомыслии в трактовке потусторонних мотивов очень быстро сделались классикой. Этот дополнительный источник, как справедливо заметил Пол Элмер Мор,[332] происходил из обостренных духовных и религиозных исканий первых колонистов в условиях чуждого и угрожающего характера той среды, в которую их забросила судьба. Бескрайние дремучие леса с их вечным полумраком, где могли твориться какие угодно ужасы; полчища краснокожих индейцев, чей пугающий облик и дикие обычаи непреодолимо наталкивали на мысль об их инфернальном происхождении; свободное хождение всевозможных поверий касательно отношений человека с суровым и мстительным кальвинистским Богом и Его рогатым антиподом, о котором сотни проповедников каждое воскресенье громогласно вещали с кафедр; привычка к болезненному аскетизму, развившаяся вследствие замкнутой провинциальной жизни, которая была лишена самых обычных развлечений да и не располагала к ним, ибо, по сути, сводилась к грубой и примитивной борьбе за выживание; наконец, постоянные призывы со стороны церкви к религиозному самоанализу и противоестественному подавлению простых человеческих чувств — все это, как нарочно, собралось воедино, чтобы породить ту среду, где зловещие слухи о ведьмах, колдунах и прочей нечисти имели хождение еще долгие годы после Салемского кошмара.
Эдгар Аллан По является представителем более поздней, более трезвой и технически совершенной школы мистической прозы, выросшей на этой плодородной почве. Другая школа, в основе которой лежали традиции моральных ценностей, умеренной строгости и мягкой, ленивой игры воображения, отмеченной большим или меньшим привкусом гротеска, была представлена еще одной знаменитой, недооцененной и одинокой фигурой в американской словесности — робким и впечатлительным Натаниэлем Готорном,[333] отпрыском старинного Салема и правнуком одного из самых жестоких судей времен охоты на ведьм. В Готорне нет и следа тех напора, дерзости, красочности, напряженного драматизма, космической жути, а также безупречного и безразличного артистизма, что отличают творения По. Напротив, здесь мы имеем дело с нежной душой, скованной путами раннего новоанглийского пуританизма; душой омраченной, тоскующей и скорбящей от осознания безнравственности этого мира, где на каждом шагу преступаются традиционные системы ценностей, возводившиеся нашими предками в ранг божественного и непреложного закона. Зло для Готорна — очень даже реальная сила; оно подстерегает нас всюду в виде затаившегося и торжествующего врага, а потому видимый мир в воображении писателя приобретает все черты театра бесконечной трагедии и скорби, где невидимые полуреальные силы соперничают между собой за власть и определяют удел его несчастных, слепых и самонадеянных смертных актеров. Прямой наследник пуританской традиции, Готорн за видимой оболочкой повседневной жизни различал сумрачный рой неясных призраков; однако он не был достаточно беспристрастен, чтобы ценить впечатления, ощущения и красоты повествования только за то, что они в нем присутствуют. Свои фантазии он обязательно вплетает в какое-нибудь неяркое, меланхолическое кружево с дидактическим или аллегорическим узором, где его кроткий и безропотный цинизм легко может отобразить и дать наивную моральную оценку тому предательству, что ежеминутно свершает человечество — то самое человечество, которое Готорн не перестает любить и оплакивать, несмотря на свою убежденность в его лицемерии. А потому сверхъестественный ужас никогда не является для Готорна самоцелью; правда, предрасположенность к нему составляет настолько неотъемлемую черту индивидуальности писателя, что он намекает на него всякий раз — и делает это гениально! — когда обращается к нереальному миру за иллюстрациями к тому или другому печальному уроку, который он хотел бы преподать.