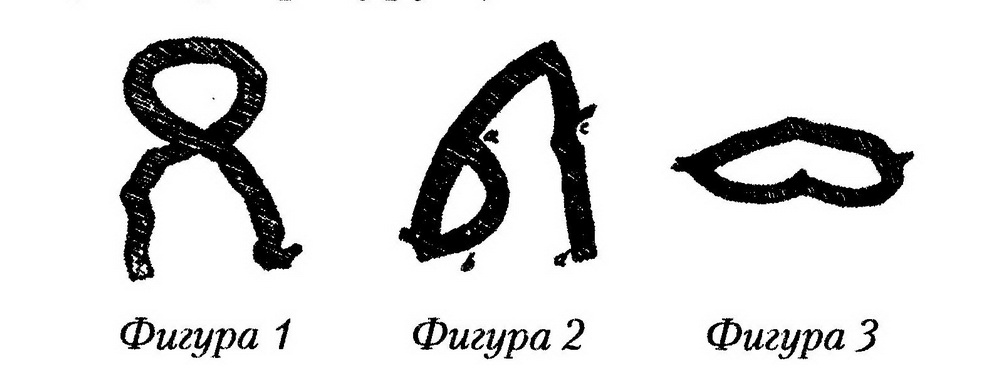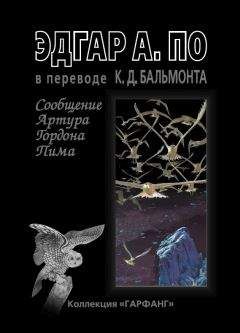в люк, Август же возвратился в бак, и у него не было никаких оснований думать, что кто-нибудь из экипажа заходил туда в его отсутствие. Чтобы скрыть отверстие в переборке, он вонзил свой нож как раз над ним и повесил на него матросскую куртку, которую нашел на койке. Наручни были вновь надеты, и веревка прилажена вкруг щиколоток.
Только что все было устроено, как сошел вниз Дирк Петерс, очень пьяный, но в прекрасном расположении духа, и принес с собой для моего друга съестное на день: дюжину больших жареных ирландских картофелин и кувшин воды. Он уселся на ящик около койки и без стеснения заговорил о штурмане и вообще о делах на бриге. Его повадка была необыкновенно своенравна и даже причудлива. Некоторое время Август был очень встревожен его странным поведением. Наконец, однако, Петерс ушел на палубу, пробормотав обещание принести назавтра хороший обед. В продолжение дня двое из экипажа (гарпунщики) спускались вниз в сопровождении повара, все трое были в последней степени опьянения. Как Петерс, они нимало не стеснялись и говорили совершенно открыто о своих планах. Оказалось, что они были несогласны между собой касательно их окончательного пути, не сходясь ни в чем, кроме мысли о нападении на корабль с островов Зеленого Мыса, с которым они с часу на час ожидали встречи. Насколько можно было удостовериться, бунт произошел вовсе не ради грабежа; частное недовольство главного штурмана капитаном Барнардом было главным побуждением. Теперь, казалось, было две главные партии среди экипажа — одной руководил штурман, другой — повар. Первая партия была за то, чтобы перехватить любое пригодное судно, какое только попадется, и снарядить его на одном из Вест-Индских островов для пиратского крейсирования. Вторая партия, однако, более сильная, среди своих сторонников включала Дирка Петерса, была склонна продолжать первоначально установленный путь брига на юг Тихого океана; там или заняться ловлей китов, или делать что-либо другое, как укажут обстоятельства. Доводы Петерса, который часто посещал эти области, оказывали, по-видимому, большое впечатление на бунтовщиков, колебавшихся между соображениями выгоды и удовольствия. Петерс уверенно говорил, что там их ждет целый мир новизны и забавы среди бесчисленных островов Тихого океана, полнейшая безопасность и безграничная свобода от каких бы то ни было препон, особенно же указывал на очаровательный климат, на возможность хорошо пожить и на чувственную красоту женщин. Ничего еще не было вполне решено, но описания индейца-канатчика сильно завладели горячим воображением моряков, и было очень вероятно, что его замыслы привели бы наконец к определенным следствиям.
Эти трое ушли приблизительно через час, и никто больше не входил в бак в продолжение целого дня. Август лежал смирно почти до ночи. Потом он освободил себя от веревки и железок и стал готовиться к новой попытке. На одной из коек он нашел бутылку и наполнил ее водой из кружки, оставленной Петерсом, набив карманы холодными картофелинами. К его великой радости, он также натолкнулся на фонарь с маленьким огарком сальной свечи. Он мог зажечь его каждое мгновение, ибо у него была коробка фосфорных спичек. Когда совсем стемнело, он пролез сквозь отверстие в переборке, из предосторожности так расположив одеяло на койке, чтобы создать впечатление закутавшегося человека. Когда он пролез, повесил матросскую куртку на свой нож, как и раньше, чтобы скрыть отверстие — это было легко сделать, вынутый кусок досок он приспособил только после. Теперь он был на главном кубрике и стал пробираться к главному решетчатому люку, как и прежде, между верхним деком и бочками для ворвани. Достигнув его, он зажег огарок свечи и, с большим трудом пробираясь ощупью среди сплошного груза в трюме, спустился вниз. Через несколько мгновений он очень забеспокоился из-за невыносимой вони и спертости воздуха. Он подумал, что едва ли я выжил такое долгое время в моем заключении, дыша таким тяжелым воздухом. Он несколько раз позвал меня по имени, но я не отвечал, и опасения его, казалось, таким образом подтвердились. Бриг испытывал сильнейшую качку, и вследствие этого из-за большого шума напрасно было прислушиваться к какому-либо слабому звуку вроде моего дыхания или храпа. Он открыл фонарь и поднимал его возможно выше всякий раз, как представлялся для этого удобный случай, чтобы, заметив свет, если я еще жив, я мог быть извещен, что помощь близится. Все же я не подавал никакого знака жизни, и предположение, что я умер, начало принимать характер достоверности. Он решил тем не менее пробить себе, если возможно, путь к ящику и наконец удостовериться с полной несомненностью в своих догадках. Некоторое время он продирался вперед, находясь в самом жалком состоянии тревоги, пока наконец не нашел, что проход совершенно загроможден и что нет никакой возможности продолжать путь дальше в том направлении, какое он выбрал вначале. Побежденный своими ощущениями, он бросился в отчаянии среди хлама и заплакал, как дитя. В это время он услышал треск бутылки, которую я швырнул. Счастье, конечно, что так случилось ибо каким бы ни казалось пустяшным это обстоятельство, с ним была связана нить моей судьбы. Много времени протекло, однако, прежде нежели я узнал об этом. Естественный стыд и раскаяние в своей слабости и нерешительности помешали Августу сообщить мне это тотчас же, в чем более интимная и непринужденная дружба побудила его впоследствии признаться. Задержанный в трюме препятствиями, которые не мог преодолеть, он решил отказаться от своей попытки добраться до меня и вернуться тотчас же к люку. Прежде чем вполне осудить его за это, нужно принять в соображение мучительные обстоятельства, которые его затрудняли. Ночь быстро уходила, и исчезновение его из бака могло быть обнаружено; и конечно, это было бы так, если бы он не вернулся к койке до рассвета. Свеча его догорала в фонаре, и было бы чрезвычайно трудно пробраться до люка в темноте. Нужно также допустить, что он имел все основания считать меня мертвым; в этом случае ничего благого для меня не могло произойти, если бы он добрался до ящика и целый мир опасностей встретился бы ему совершенно напрасно. Он звал меня многократно, и я не отвечал ему. В течение одиннадцати дней и ночей у меня было не большее количество воды, чем то, которое содержалось в кувшине, им оставленном, — совершенно невероятно, чтобы я приберег этот запас в начале моего заключения, ибо у меня были все основания ждать скорого освобождения. Атмосфера трюма также казалась ему, пришедшему со свежего сравнительно воздуха в баке, совершенно отравной и гораздо невыносимее, чем показалось мне, когда я