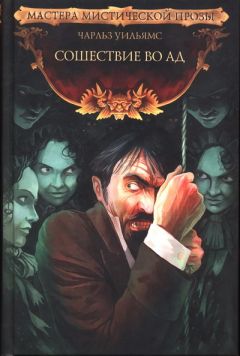– У меня ни разу не было кошмаров с тех пор, как я начала каждую ночь говорить себе: «Сон прекрасен, вот он, сон. Сон прекрасен». И никаких снов, – сообщила Миртл. – И каждое утро я повторяю то же самое, только говорю не «сон», а «жизнь». «Жизнь прекрасна, вот она, жизнь. Жизнь прекрасна».
Стенхоуп бросил быстрый взгляд на Паулину.
– Страшно прекрасна, пожалуй, – сказал он. – Страшно прекрасна, – закивала Миртл. Миссис Сэммайл поднялась.
– Мне пора, – сказала она. – Не понимаю, что мешает вам радоваться самим себе.
– То, что рано или поздно радоваться в самом себе становится нечему, – пробормотал Стенхоуп ей вслед.
Паулина проводила старую даму до калитки и распрощалась.
– Нам надо встретиться, – настойчиво сказала миссис Сэммайл. – Я всегда здесь, неподалеку, и, по-моему, могу тебе пригодиться. Сейчас тебе придется вернуться, но однажды возвращаться не понадобится… – с этими загадочными словами она затрусила прочь, и только перестук каблуков нарушал тягостное безмолвие Баттл-Хилл.
Прежде чем вернуться в сад, девушка немного помедлила. Ощущение чего-то значительного висело в воздухе; что-то должно было произойти или уже начало происходить. Казалось, самый обычный полдень, один из тысячи сад, немного разговоров, гости, чай, но сквозь обыденность упорно проступало нечто иное. «Все дело в пьесе, – подумала она. – Я слишком серьезно отнеслась к этой постановке». Пальцы Паулины бездумно поглаживали перекладину калитки. «Просто слишком много всего. Как-то странно я пообещала бабушке, что смерть не должна мешать постановке. И к чему она вспомнила этого несчастного предка, обратившего смерть в победу? Спасение Струзера, спасение Анструзеров… ораторское искусство, декламация, поэзия, Питер Стенхоуп, Лили Сэммайл, какой-то сюрреалистический спор о погоде, и ее глупая фраза о „собственной погоде“; разговоры, разговоры, о стихах, о снах, о поэзии… „Чистота, ритм, смирение, мужество…“ А Лили Сэммайл говорит, что все это только мешает радости… Да уж, надо быть „страшно прекрасной“, чтобы сподобиться этой радости. И страшно осторожной со всеми этими разговорами».
Она поглядела на улицу и вдруг подумала, что если бы оно показалось сейчас, она подождала бы его. В конце концов, она принадлежит экспериментальному Хору, а не только себе.
Мой мудрый сын, кудесник Зороастр.
В саду блуждая, встретил образ свой…
Если даже для того, чтобы читать стихи, по словам Стенхоупа, нужны эти добродетели, то уж, наверное, Шелли обладал ими до того, как написал эти строки? Может быть, зря она их так невзлюбила? Может, они попались ей на глаза как испытание? Может, надо попробовать проникнуть в их тайный смысл, как сделал это сам Шелли? И что же откроется за ними?…
Пора было возвращаться. Она оторвалась от калитки. Миссис Сэммайл уже дошла до угла. Она оглянулась и помахала рукой каким-то странным манящим жестом. Паулина нехотя помахала в ответ. Прежде чем она начнет рассказывать себе истории, нужно понять, что кроется в стихах. Она должна услышать продолжение.
Гости уже собирались уходить. Миссис Анструзер явно устала. Она заставила себя подняться, чтобы попросить Стенхоупа заходить еще, если ему будет угодно. И больше ничего не произошло, разве что Стенхоуп, когда Паулина уже попрощалась с гостями, помедлил и, пропустив вперед мисс Фокс, тихонько сказал:
– Существительное управляет прилагательным, а вовсе не наоборот.
– Существительное? – не поняла Паулина.
– Прекрасное. Оно управляет страшным, а не страшное – прекрасным. Я не дам вас в обиду. Всего доброго, Периэль. – И он ушел.
К вечеру того же дня миссис Анструзер лежала в постели – без сна, но вполне довольная, – и тоже вспоминала дневные события. Она была рада повидать Питера Стенхоупа и не очень обрадовалась Лили Сэммайл, но раз Бог попустил ее существование, стало быть, она – тоже Его посланник и трудится ради некоего блага, непонятного пока Маргарет Анструзер. Интересно, понимает ли сама Лили, что предлагает? Что-то слишком похоже на Миртл Фокс, которая приладилась рассказывать себе сказки.
Она посмотрела в окно. У нее еще оставалось несколько вечеров, когда можно просто так смотреть как уходит день, а то, что вечеров этих осталось немного, только усиливает ощущение счастья. Впрочем, понимание обыденности происходящего его тоже усиливало. Неповторимость придает радости один вкус, обыденность – другой. Событие могло быть прекрасным уже потому, что ему не пришлось случиться; вообще, неслучившееся прекрасно. Пока человек принимает радость бытия – все хорошо. Но все кончается, как только он пытается привязать радость к конкретному событию или требует от бытия именно тех радостей, которых хочется Я ему. Вот скоро она умрет… Ну и что? Просто смерть откроет ей еще одну радость.
В последних пьесах Стенхоупа ей нравилось все возрастающее ощущение чистоты и простоты. Конечно, как свойственно всякой настоящей поэзии, смысл этих пьес глубже, чем способен уразуметь любой конкретный человек, да и она в том числе. Это видно по тому, как Стенхоуп пользуется словами. Она не знала, что именно из личного опыта поэта перешло в его стихи. Да это и не важно. Важно то, как замечательно удается ему не только уловить, но и передать великую силу жизни. Любому, кто знаком с ней, понравятся его стихи. Как замечательно зазвучала эта сила в его странном Хоре, который так горячо обсуждают местные эксперты по культуре, не понимая, насколько сами они обязаны этой силе всей своей жизнью. В ней мало человеческого, хотя она и прорывается время от времени, например, в песне Ариэля в «Буре», поднимаясь на волнах звуков, свободных от человеческих желаний, страхов, упований.
Сама она не смеет пока вторить Хору; пусть ему вторят те, у кого либо меньше знаний, либо больше отваги. Она осмеливается только вспоминать; декламация требует больше мужества, чем нужно даже для смерти. Вот когда она умрет, тогда сможет правильно читать стихи Стенхоупа. Но для этого надо умереть хорошо.
Здесь это будет легче, чем где-нибудь еще. Это место много веков насыщалось смертью, словно смертные потоки стремились сюда издалека, как в стоячий водоворот. Такие места, самим Провидением назначенные быть усыпальницами, рассеяны по всей земле. В них находят конец любые человеческие движения, и Баттл-Хилл – одно из таких мест. Здесь долго копилась энергия покоя, энергия знания.
Она верила: в смерти дух человека начинает видеть себя и мир в истинном свете. Это другое знание. Оно обладает силой, и здесь, в Баттл-Хилл, эта сила ощущается отчетливее, чем в остальном мире. Она почти видела, как незримое присутствие мертвых меняет пути живых. Вот почему в языческих странах дома усопших запретны для живых. Варвары понимают, что ради сохранения жизни надо строго разделять миры живых и мертвых. Мудрость многих религий создала священные обряды, связанные со смертью, и отправляет умерших навстречу их судьбе с молитвами и ритуалами, необходимыми не только мертвым. Скорее, они призваны охранять живых от вторжения призраков; а самим призракам они облегчают путь в их собственный мир, не позволяя останавливаться и возвращаться. Их подгоняют миропомазанием и реквиемами, молитвами и мессами; меч экзорцизма преграждает обратный путь тем из них, кому особенно трудно уходить. Но там, где вера терпит неудачу, где некрополи лишены налета мистического страха, где кремация поддерживает иллюзию быстрого и легкого ухода, где лукавый конформизм уверяет в дружелюбных отношениях между живыми и мертвыми – там эта новая близость часто оборачивается страшными узами.