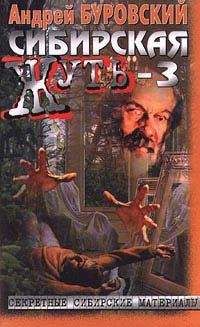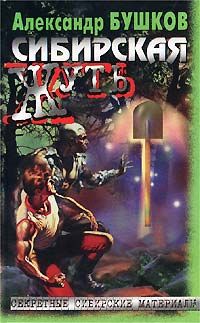А кроме того, слишком уж были братья счастливы, что все-таки попали к тому, кому можно рассказать проблему. А что именно Лукерье Тимофеевне можно, они как-то и не сомневались: кто тут божественная старушка?
Лукерья Тимофеевна слушала, подперев щеку рукой, вздыхала, думала.
— Ну, давайте посмотрим, — тихо уронила она. Вздыхая, тихонько кряхтя, доставала Лукерья Тимофеевна из шкапа какую-то чашку. Смотрела, неодобрительно качала головой, доставала другую, смотрела… На четвертой чашке Лукерья Тимофеевна остановилась; наступила очередь каких-то не очень понятных веществ, связок трав, которые она вытаскивала из коробочек, ящичков, отделений шкапа и все внимательнейшим образом обнюхивала, осматривала, порой даже брала в рот. Светила лампочка под потолком красноватым нездешним оттенком, падал свет из коридора — такой же непрочный, красноватый, и на стены, на потолок, на старинные шкапы и шкапчики ложились тени все причудливей. Не дыша, смотрели братья на старуху, перемещавшуюся, сопя и отдуваясь, по тесной, заставленной мебелью кухоньке. Что в этих перемещениях, сопениях, глубокомысленных качаниях головой было необходимо, а что служило фоном волшебства — они же не знали…
Наконец божественная бабушка поставила чашку на стол, стала что-то кидать в нее, бормотать. Потом братья уверяли, что хотя чашка с холодной водой так и стояла на столе, от воды начал подниматься парок… Но, может быть, им только показалось в адском освещении, во всей этой очень уж странной обстановке.
— Гм…
Лукерья Тимофеевна кинула на мальчишек совсем не любезный взгляд, опять стала копаться в шкапчике (а чашка все еще дымилась, хотя и слабо). Из дальнего ящичка вытащила старуха какой-то сверточек, узелок размером чуть больше грецкого ореха, долго развязывала (мальчики сидели, не дыша). Потом, недовольно сопя, кинула чтото в чашку. Вода закипела, забурлила. И словно бы какой-то мертвенный зелено-синий свет заструился из чашки на потолок, бросил блики на склоненное лицо Лукерьи Тимофеевны. Старуха опять бормотала, качала головой, внимательно смотрела в эту чашку. Мальчики потом не могли бы сказать, сколько времени все это продолжалось, но тогда для них прошли геологические эпохи.
Наконец старуха откинулась на стуле, набросила на чашку тряпочку (отсветы сразу потухли и никакой пар больше не шел — если, конечно, это был пар). И, подперев рукой голову, усталая старуха вздыхала, внимательно уставившись на братьев, уставившись так, словно никогда не видела ничего подобного. Неуютно было братьям под этим изучающим, неодобрительным взглядом, и сколько это все длилось, они не могли потом сказать. Во всяком случае, длилось долго, и никто из них не посмел прервать молчания.
— Ну и влетели вы, ребята, — тихо оборонила божественная старушка, и ребята вздрогнули от неожиданности, от звука человеческого голоса в этой напряженной тишине.
— Это черт приходил?..
— Тс-ссс… Не болтай! А если уж надо называть его, то уж лучше тогда скажи: бес. Но это не он, ты не бойся.
— Все равно очень страшно. Сглазили нас, да? Те, которым квартиру не дали, когда нам квартиру давали… Мама говорила, они сердились очень, кричали, что все равно нас испортят.
— Нет, парнишки, вас никто не испортил… Но так ругаться — это же невозможно! Где вы научились беса поминать через три слова?!
— Нигде… Старшие мальчишки еще как… Мы еще ничего…
— Вот старшие пусть сами отвечают! Вы за себя отвечать научитесь. Что, впервые слышите, что ваша ругань нечисть привлекает? Кто черную брань придумал, знаете?
— Не-а…
— Дьявол придумал. К нему хотите?
Братья дружно замотали головами.
— Ну то-то…
Опять настала тишина. Будь братья постарше, они поняли бы — старуха ждет их реплики.
— Так это к нам на ругань че… бес приходит?
— И никакой не бес, а вовсе покойник случайный! Свернули ему голову, когда еще стройка здесь была, да в песок и заховали… Что такое заховали? Значит спрятали…
Молчание. Братья переваривали информацию.
— А кто ему голову свернул? Мужики взрослые?
— Ясное дело, не дети. Кто — не знаю, а и знала бы, не побежала разносить. Только человек этот плохой был, много дурного делал, а лежит он под вашим подъездом, от ваших кроватей — метров двадцать по прямой. Надо его вынуть, отпеть и в церкви свечку поставить. У вас полтинник на свечку найдется?
— Мы найдем, нам на завтраки в школе дают. И что, если свечку поставить, пройдет?
— Пройдет? А, в смысле беда пройдет, не будет больше этот приходить? Ну да, этот уже не будет… Только если вы и дальше браниться будете по-черному, дождетесь — и другой появится.
— Мы боялись, он прямо в дом войдет.
— А что? И запросто войдет. Войдет и схватит.
Мальчишки содрогнулись, и Лукерья Тимофеевна заулыбалась довольно ехидно.
— А… а что делать надо?
— Надо дать обет… Отказаться от ругани. И не ругаться больше никогда.
— Совсем?
— Лучше совсем, а не можете совсем, то все равно, чем меньше ругаться, тем лучше. А сейчас идите, мальчики, и ничего не бойтесь. Не заругаетесь — уже сегодня не будет ничего. И помните, что делать нужно.
Не без трепета пошли мальчишки домой, но ничего и правда не было.
Кто сообщил куда следует про покойника в подвале, братья догадывались, но у Лукерьи Тимофеевны никогда не спрашивали. Наряд милиции приезжал, полез в подвал, когда мальчишки были в школе; под вечер, когда они пришли после уроков, возле подъезда сгрудилась густая толпа, дверь в подвал распахнута, и из нее санитары на носилках, в сопровождении милиции, выносили что-то длинное, накрытое простыней, распространяющее сладкое зловоние.
Свечку они поставили, «за упокой раба Божьего, имя же Ты веси» — что надо именно так, им объяснила старушка в церкви, и ей они тоже дали десять копеек. Деньги были, потому что накопили мальчики полтинник, а стоила свеча всего тридцать копеек.
Мальчики долго думали, что бы им купить Лукерье Тимофеевне… Сначала не могли придумать, потом придумали — новый платок, и стали копить на него деньги. Накопили десять рублей, надо было еще пять, и парни уже присмотрели платок, да не успели купить — Лукерья Тимофеевна тихо умерла на своей мрачноватой кухне. Так и упала головой на стол, и говаривали, что в чашке было набросано много чего непонятного, на столе лежали странные предметы и связки трав, а по стенам бродили еще более странные тени, слышалось потрескивание в шкапах и сундуках. Вроде бы большое ли дело, потрескивание? А люди почему-то настораживались, пугались, — видимо, было в этих тресках что-то не совсем обычное.
Впрочем, о смерти Лукерьи Тимофеевны могли и наговорить лишнего: о ней ведь и при жизни много чего говорили такого, что и не разберешь, где кончается правда и начинается вымысел.