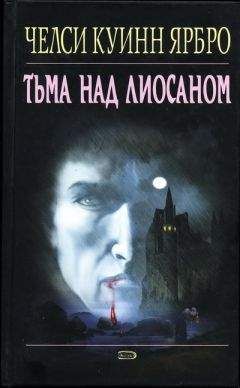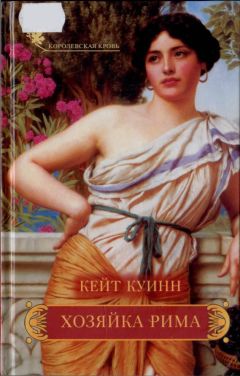Она знала, что Пентакоста никуда не поедет, ибо ту ужасали густые леса, а точнее — их жуткие, беспощадные обитатели.
— Нет, — мрачно буркнула Пентакоста, облизнув пересохшие губы. — Мне нет резона появляться в монастыре, не имея возможности прикоснуться к супругу. Раз ему более мил Христос Непорочный, мне там нечего делать. — Она резко повернулась и уже стала взбегать вверх по узким ступеням, но, внезапно остановившись, оглянулась назад. — Думаешь, ты сумела меня одурачить? Не заблуждайся.
— У меня нет ни малейшего намерения дурачить тебя, Пентакоста, — отозвалась Ранегунда, ощущая приступ сильной усталости. — И никогда не было, хочешь верь, хочешь нет.
Перекрестившись в знак подтверждения искренности своих слов, она двинулась к двери, выходящей во внутренний двор.
— Тебе со мной не совладать, — заключила невестка и исчезла за лестничным поворотом.
Ранегунда с минуту стояла, хмуро глядя на то место, где только что находилась рыжеволосая бестия, потом тяжко вздохнула, понимая, что их постоянные столкновения ничего хорошего никому не сулят. Она собиралась уже толкнуть дверь и направиться в кухню, но тут за спиной ее кто-то мягко сказал:
— Она вас не понимает, и я не думаю, что вы в состоянии что-либо ей объяснить.
Ранегунда резко повернулась и стала падать, проклиная свое больное колено и тщетно цепляясь рукой за гладкую влажную стену. Конфуз, казалось, был неизбежен, но ее поддержали и с поразительной легкостью вернули в прежнее положение. Она, неожиданно оробев, закраснелась, отчего оспины на ее лице словно бы углубились, и, чтобы скрыть смущение, грубо спросила:
— О чем это вы?
— Собственно, ни о чем. А впрочем, о том, что ей чужды все ваши понятия, особенно когда речь заходит о чести, — спокойно сказал Сент-Герман. — И дело тут вовсе не в вас. Ваша невестка отнюдь не уверена, что честь как таковая вообще существует, и считает, что это всего лишь предмет, о котором все любят порассуждать. Она имеет некое представление о чувстве долга, но и его воспринимает без особого удовольствия, как, скажем, обузу.
Удостоверившись, что собеседница вновь крепко держится на ногах, Сент-Герман отступил на шаг.
Она уязвленно кивнула.
— Вы, значит, все слышали?
— Думаю, да.
Он стоял перед ней в простом, черной шерсти, камзоле и грубых лосинах. Ранегунда знала, что все это ему продали крестьянки из деревушки, те, что, отринув дурные предчувствия, польстились на чужеземное золото. Она знала также, что блузу из тонкого матового полотна ему сшили жены местных солдат, а высокие римские сапоги стачал здешний шорник. Фасон их был столь необычен, что на работу ушло много дней, и Сент-Герман, ожидая, ходил в опорках, одолженных у Ульфрида, имевшего самые маленькие ступни в гарнизоне. Неделю назад он купил старый ржавый кинжал, сам его вычистил, заточил лезвие и побрился. Чужеземец все еще выглядел изможденным, но большая часть синяков уже побледнела, а остальные приобрели цвет пергамента, не слишком заметный в полумраке башни. Постель ему была теперь не нужна, но он все равно день-деньской сидел в своей комнате, лишь изредка забираясь на башню или обследуя ее нижние помещения, а гулять выходил только в сумерках и часами кружил по просторному внутреннему двору.
— Меня бы все это не тревожило, если бы Пентакоста оставалась такой же, что и сейчас, а не противилась своей участи, — морщась от внутреннего напряжения, продолжила Ранегунда. — Я молю Господа даровать мне мудрость в отношениях с нею, однако она ярится все больше. Брат не считает, что мне удастся смирить нрав упрямицы. Его предупреждали, что женщины ее рода блудливы.
— Странно тогда, почему он решился на брак, — осторожно проговорил Сент-Герман.
— Сватовство затеял маргерефа Элрих, он все и устроил. Союз рассматривался как очень удачный, а отец невесты не настаивал, чтобы Гизельберт взял в наложницы остальных его дочерей, да и выкуп за Пентакосту просили довольно умеренный. Вельможам Лоррарии нужна была древесина, а королю — друзья на границе. К тому же Пентакоста — красавица. — Ранегунда вздохнула. — Если бы Гизельберт не убил Изельду, все было бы по-другому. Но прошлого не вернуть.
Сент-Герман уже знал кое-что о смерти первой жены Гизельберта, но не в подробностях, однако решил проявить осмотрительность и задал нейтральный вопрос:
— Как давно это случилось?
Темные глаза были столь дружелюбны, что погасили огоньки недоверия в серых.
— Давненько, — ответила Ранегунда. — Прошло уж пять лет. Изельда разрешилась от бремени в разгар лета, но младенец родился мертвым. — Она прикусила губу. — Это был мальчик. Если бы родилась девочка, Изельде, возможно, сохранили бы жизнь.
— Ваш брат убил свою жену лишь потому, что она родила мертвого ребенка? — потрясенно прошептал Сент-Герман.
— Все сочли, что она задушила его в утробе. Иногда матери так поступают. Он появился на свет вперед ножками — с высунутым изо рта язычком и с пуповиной, обкрученной вокруг шеи. Крошечное личико было почти черным. — Ранегунда вздохнула еще раз. — Приметы то предвещали, я сама видела их, но до сих пор плохо верю в виновность Изельды. Глядя на нее, всегда думалось, что она воплощение всего самого доброго на земле. И все же бедняжка сильно мучилась во время родов — говорят, в наказание за убийство. Что Гизельберт мог тут поделать?
— Он поступил так, как повелевают обычаи? — спросил Сент-Герман, не ожидая ответа.
«Мир все таков же, — думал он опечаленно. — Мир по-прежнему дик».
— День, когда он утопил ее, был самым ужасным в его жизни. Гизельберт так не страдал даже после смерти отца. Он пребывал в полном смятении и двигался как человек, охваченный жуткими сновидениями и тщетно пытающийся пробудиться. Брат Эрхбог опасался, не вселились ли в него бесы. — Ранегунда раздумчиво пошевелила бровями. — Но реальность была много хуже, чем самый ужасный кошмар. Гизельберту пришлось бить Изельду до потери сознания — ему это разрешили. Чтобы все поскорее закончилось — без лишних мук и возни. Маргерефа и епископ проявили к ней снисходительность, но Гизельберт все равно содрогался, погружая ее голову в воду. Пеню за убийство, конечно, не стребовали. Пеня не взимается, когда вершишь праведный суд.
— Праведный ли? — пробормотал Сент-Герман.
— Ее обвинителем являлось ее же дитя, день рождения которого оказался и днем его смерти. Никто не мог выступить против такого свидетельства, даже отец и родня, — заявила с вызовом Ранегунда. — А ведь были еще и дурные предзнаменования. Рыбацкая лодка села на мель у самого берега за месяц до разрешения роженицы, и белая свиноматка сожрала всех своих поросят.