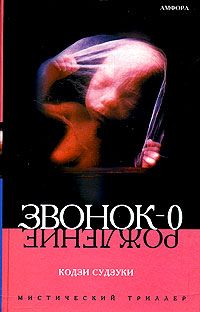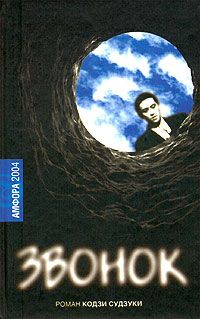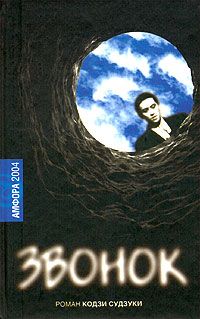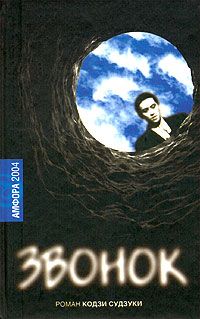Как было бы замечательно, если бы эти слова услышали зрители. Если бы это перестало быть секретом, если бы об этом знали все, не было бы необходимости обниматься исподтишка. Если бы так случилось, какое бы он почувствовал облегчение.
Он хотел говорить о любви к Садако, никого не стесняясь. Он доставил бы эту информацию прямо в уши Сигэмори. Дал бы понять, что тот, кого любит Садако, — Тояма, а не Сигэмори. Если бы это случилось, Сигэмори не позволил бы себе дотрагиваться до нее.
Тояму охватило смятение. Нет, активные действия в безлюдном фойе совершила Садако, а не Сигэмори.
Оставив отзвук, девушка в черном исчезла со сцены. Она мало появлялась на сцене, но ее исчезновения, оставляющие атмосферу, что она здесь точно находилась, были действительно эффектными. Без лишних слов и, конечно, без слов прощания.
Однако на самом деле это было исчезновение, которого совершенно не хотелось.
Генеральная репетиция закончилась, замечаний почти не было, и всех поблагодарили за труд.
Когда из уст Сигэмори раздалось прощальное «всем спасибо», уже можно было свободно разойтись. Тояма испустил вздох облегчения. Он несколько раз допустил оплошность и переживал, что его будут ругать.
Казалось, Сигэмори отпустил всех пораньше не потому, что генеральная репетиция прошла успешно, а потому, что слишком устал. Собравшимся на сцене и зрительских местах актерам и персоналу, обслуживающему спектакль, Сигэмори, делая паузы после каждого слова, рассказал о своих впечатлениях и призвал всех стараться на публичных показах спектакля, которые начиная с завтрашнего дня будут идти три недели. У него был плохой цвет лица, он сидел, откинувшись на спинку стула, и никак не решался подняться.
Однако лица актеров выглядели воодушевленными от предвкушения завтрашнего дня.
— Всем спасибо.
Прощаясь, люди расходились по своим делам: кто собирался домой, кто еще продолжал репетировать. Главное, всем надо было уйти до двенадцати, когда театр закроют. В двенадцать часов охранник проводил проверку, и после нее оставаться в театре было нельзя.
Тояма еще раз поднялся в звукооператорскую студию, чтобы все убрать.
Итак...
Готовясь к завтрашней премьере, Тояма еще раз прикинул, что осталось несделанным.
Когда он проверял пленку на генеральной репетиции, его тревожили сложные чувства по отношению к Садако. Но липших записей не было. Тояма доверял своим ушам. Несмотря на переживания, он не должен был прослушать примесь странного звука. Если в наушниках никакого звука не заметил, то простые зрители и подавно не заметят.
...Да, кассетный магнитофон.
Тояма увидел на полке под столом кассетный магнитофон. К его корпусу были приделаны кожаные ремешки для переноски. Тояма потянул за них и вытащил магнитофон из глубины.
Это была самая новая модель. Повесив ремешок на плечо, его запросто можно было носить с собой, причем он был со встроенным микрофоном. Хочешь, например, записать звуки шагов на улице, берешь его, выходишь на улицу и записываешь, потом дублируешь на бобинный магнитофон и монтируешь запись.
Тояма вспомнил, что на этом магнитофоне была запись, которую не стоило давать никому слушать. Вчера днем, когда в зале для репетиций были одни ученики, у всех возникло желание поозорничать.
Заводилой, конечно, был Окубо. Окубо, совершенствуя коронный номер своего репертуара — звукоподражание, сказал, что хочет, записав голос, проверить свои успехи. Кассетные магнитофоны еще были редкостью, и Окубо, попросив объяснить, как им пользоваться, созвал приятелей.
Среди собравшихся, включая Тояму, были одни ученики, и Окубо начал демонстрировать свое мастерство. Сорвав одобрительные аплодисменты, Окубо перемотал пленку и, слушая себя, покатывался со смеху, критикуя свои промахи. Это оказалось еще смешнее.
Окубо, который в основном подражал голосам телевизионных ведущих, постепенно перекинулся на знакомых. Жертвами его насмешек стали актеры из основного состава труппы, у которых были характерные особенности речи. Более того, дошло и до режиссера Сигэмори, что делать было рискованно. Особенно трусливые проверили, нет ли в дирекции Сигэмори. Вот будет ужас, если он услышит!
Окубо искусно изобразил и тон Сигэмори, когда он делает замечания, и его занудную ругань за плохую игру, и даже его типичные фразы для соблазнения молодых актрис. Слушать то, с чем обычно приходилось сталкиваться, еще интересней, и концерт Сигэмори затянулся надолго, а магнитофон так и продолжал писать.
Кассетный магнитофон, на котором было записано все от начала и до конца, сейчас стоял перед Тоямой. Надо подготовить магнитофон для экстренных случаев на показах спектакля и поставить чистую кассету, чтобы можно было сразу ею воспользоваться. Однако запасной кассеты не было, и Тояма размышлял, что ему делать.
Кассета, на которой было записано, как все покатываются со смеху над Сигэмори, являлась безгранично опасной уликой. Если случится, что Сигэмори узнает об этом, дело одной бранью не закончится. Тем, кто слушал, еще ничего. А вот с Окубо неизвестно что случится.
Тояма решил стереть запись с кассеты.
Если включить запись при выключенном микрофоне, пленка снова станет чистой. Проверять, где и чей голос записан, было обременительно, и Тояма решил очистить ее целиком. Для этого требовалось сорок пять минут.
Тояма включил запись на кассетном магнитофоне и удостоверился, что пленка начала крутиться. Сейчас доказательства их забавы должны исчезнуть.
От нечего делать он бросил взгляд на сцену, где медленно прохаживались несколько актеров, проверяя мизансцену. На возвышении в центре находилась Садако Ямамура.
Садако, чтобы это выглядело убедительно, репетировала снова и снова сцену, где она открывала рот, собираясь что-то сказать перед тем, как гас свет. Что Садако могла сказать? Нет, не то. Была ли реплика Садако, так и не высказанная, в голове Сигэмори или нет? Если она существует, Тояма хотел бы услышать ее непосредственно от Садако.
Тояма приблизил лицо к окошку звукооператорской студии и сосредоточил взгляд на Садако.
Похоже, Садако опять заметила, что Тояма на нее смотрит. Перестав репетировать и опустив руки, она подняла глаза на Тояму. То, что сейчас их взгляды встретились, не вызывало сомнений у Тоямы.
В звукооператорской горел свет, и лицо Тоямы не должно было виднеться на фоне окна. По периметру сцены включили софиты, и там царила совершенно другая атмосфера, чем во время генеральной репетиции. Залитая белым светом Садако выглядела по-другому, даже цвет ее лица стал другим. Черное платье, ее сценический костюм, изменив оттенок, казалось непристойным — будто сквозь него просвечивало нижнее белье.