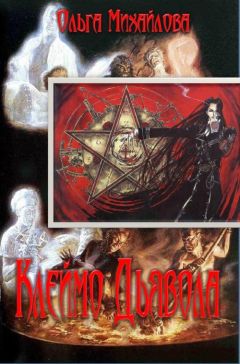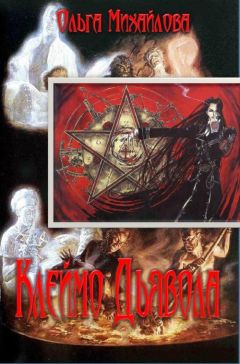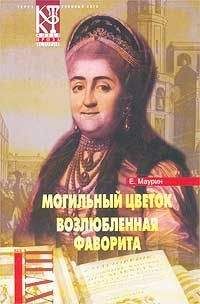По окончании школы, перед поступлением в Меровинг, он несколько месяцев жил у своего опекуна в Лозанне в его особняке возле старой готической церкви Сен-Франсуа, где томился в обществе ветхих старух, слушая разговоры о генеалогических древах и этикете былых времен. Родичи-мужчины казались нудно болтавшими маразматиками, и у него сжималось сердце от жалости к этим мумиям из мрачных гробниц эпохи сеньоров-епископов.
Побывал Сиррах и в Париже, где попытался сойтись с молодыми людьми своего круга. Они распутничали, ездили на бега и в оперетку, играли в баккара и ландскнехт, проматывали состояния. Но за пару месяцев такой жизни ему надоели все эти компании с их убогим и легкодоступным разгулом, не возбуждавшим ни крови, ни нервов.
С детства Риммон, погружаясь в перипетии запутанных готических романов, воображал себя их отважным героем — то Ланселотом, то Робин Гудом. Буйная сирийская кровь, дававшая себя знать в последнем отпрыске погибшего рода, помутила в нём изначальное благородство и чистоту, но свои хождения по борделям Сиррах был склонен считать скорее приключениями, чем развратом. Любовь можно было купить везде — от роскошных домов в районе Пале-Ройяль до вшивых меблированных комнат улицы Монжоль, от шикарных борделей Шато-Гонтье до баров и кафе, где разносили пунш полуодетые официантки. Но сам он как-то не думал об этом серьезно. Для кого бордель был сточной канавой для низменных страстей, для кого — средоточием мрачных страстей, кто-то называл его миром роскоши и страсти. Для Риммона бордель был всего-навсего приключением. И в Меровинге приглашение Нергала участвовать в тамплиерских ритуалах он тоже воспринял как приключение.
Тем тяжелее и жестче было потрясение.
Он, в свои двадцать четыре, никогда не переживший даже воображаемой неловкости, не знавший первых симптомов, вдруг ощутил, как вся шея, щеки, лоб покрылись испариной, стало душно и неимоверно тяжело. То, что на его глазах сделал Нергал, было для него мерзостью невообразимой, гнусностью запредельной. Лицо Виллигута потрясло не меньше. Он знал, но никогда не произносил слово "достоинство", оно было для него слишком книжным и высокопарным, но… но…sunt modus in rebus, et sunt serti denique fines, есть мера в делах, и есть, наконец, определенные пределы, господа! Это же… Это невозможно, мсье! Почти бегом, задыхаясь и спотыкаясь на ступенях, Сиррах, не дожидаясь конца церемониала, выскользнул из душного зала.
Бенедикт Митгарт не понял, куда выскочил Риммон, да и не очень-то интересовался. Спёртый воздух помещения не тяготил его, он находил всё происходящее в меру забавным. Легкое презрение к Виллигуту не помешало ему воспринять всё с должной мерой юмора. Он понял наконец, чего тот неотступно крутился рядом, но это не вызвало в нём никаких эмоций, а продолжение церемониала даже увлекло его. Открывшийся в стене занавес обнажил странное алтарное углубление, где на невысоком пуфе, словно пифия на треножнике, сидела голая рыжая Лили. На ней были очень красивые туфельки а ля маркиза де Помпадур, с дорогими сверкающими пряжками. По шее и груди струились виноградные лозы бриллиантового колье.
Митгарт вынужден был признать, что дьявольское богослужение интересней божественного, неизменно нагонявшего на него скуку. Он не верил в Пресуществление тела Христова, и осквернение причастия, потоптанного каким-то толстым попиком, было ему непонятно — чего так усердствовать? Но зрелищное театральное соединение на алтарном пуфике Лили и Мормо, облачённого в какое-то смехотворное подобие сутаны, оставлявшей открытыми гениталии, понравилось ему и возбудило. Наркотическое зелье, розданное участникам, оказало дополнительное действие, и Бенедикт с изрядной долей удовольствия принял участие в развесёлой свальной забаве, последовавшей в заключение. Он не помнил, кто попадал под него, но старался даже в разгаре оргии не оказаться рядом с Виллигутом, чьи склонности теперь стали явными. Собственно, он ничего бы не имел против подобных изысков, но не в Меровинге, и не с Генрихом, — тот не нравился ему. Он забавлял уже третью девицу и, одурманенный предложенным ему настоем, не очень удивился, увидев в разгаре развлечения рядом с собой куратора.
Утром он не вспомнил об этом, хотя и ощущал, что позабыл нечто странное.
Утомлённый Мессой Мормо тем не менее не хотел отпускать Лили, и после церемониала затащил её к себе. Но их общению помешал стук в дверь — слишком хозяйский, слишком вагнеровский. Так стучат только кредиторы. Qui diable!? В ярости распахнув дверь, Мормо остановился, как вкопанный, почувствовав, что в горле мгновенно пересохло. Он осторожно сглотнул слюну и облизнул губы.
На пороге стоял куратор. Отстранив Мормо, Эфраим Вил прошёл, словно был у себя дома, в гостиную и, присев на вращающийся стул у рояля, долгим взглядом пронзил раскинувшуюся на подушках полусонную, одурманенную Лили. Взгляд его упёрся в небольшое родимое пятно, черневшее на её левой груди. Потом он повернулся на стуле, задав несколько ничего не значащих вопросов Мормо, придвинулся к роялю и его длинные пальцы с ногтями, больше похожими на когти, упали на клавиши. Послышались такты мелодии, в которой Мормо, обладавший недюжинным слухом, сразу опознал заупокойную мессу. Но опознал с трудом, ибо аккорды её доносились только из-под правой руки куратора, тогда как левая, порхая abbassamente di mano, разухабисто наигрывала пошлейшую шансонетку "Повыше ножки, дорогая". Мормо неоднократно слышал её в свинском исполнении Нергала, который всегда игриво подхрюкивал в такт вульгарному напеву. Потом аккорды шансона стихли, и через несколько тактов vivace, con brio, мягко превоплотились в сентиментально-слезливую песенку, слова которой Мормо помнил с детства: "Ah, mein lieber Augustin! Alles ist weg…", "Ах, мой милый Августин, всё прошло…"
Музыка резко оборвалась. Куратор посидел ещё несколько минут и, по-хозяйски налив себе коньяку, выпил. Затем резко встал и вышел, неслышно прикрыв за собой дверь.
Мормо в недоумении задвинул засов.
Сумбурная субботняя ночь наконец иссякла последним бокалом пьянчуги, и сквозь пустое дно забрезжил вялый октябрьский рассвет. Утром в воскресение Эстель и Симона собрались в лавчонку, расположенную в городишке Шаду, неподалеку от Меровинга. Сиррах, хоть и не успел выспаться, вызвался проводить их. Его предложение, правда, без энтузиазма, всё же было принято, девицы боялись идти совсем одни пустынной дорогой.
На рассвете Сиррах ощущал мутную тошноту и головную боль, при воспоминании о ночном шабаше морщился. Тяжело было на душе, но хуже всего было то, что мрачное нездоровье уже месяц — ещё со времен той ужасной ночи с чёртовой рыжей ведьмой, угнездилось в нём, точно червь, и исцеление не приходило… Сиррах не мог понять, в чём его недуг. Сердце странно щемило, точно сжимало неясным предчувствием смерти. Это ощущение неимоверно угнетало. Что с ним такое, Боже?