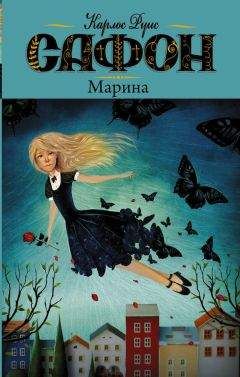– Вам это не показалось странным?
– Не более странным, чем другие газетные сообщения, – доктор решительно сворачивал нашу беседу. – Этот мир нездоров. Включая, надо сказать, и меня. Я устал. Что еще, молодые люди?
Я хотел было спросить о даме в черном, но Марина улыбкой и жестами дала знать, что мы немедленно уходим. Доктор позвонил, и вошла Мария Шелли – воздушная походка, глаза долу.
– Наши гости нас покидают, Мария.
– Я их провожу, папа.
Мы встали, и я протянул было руку за фотографией, зажатой в дрожащей руке доктора, но он сжал ее крепче.
– Если не возражаете, молодые люди, я оставлю ее у себя…
С этими словами он резко повернулся к нам спиной, слабым жестом указав Марии на дверь, как бы торопя нас всех на выход. На пороге я оглянулся: доктор как раз бросал фотографию в огонь камина. Языки пламени плясали, отражаясь в его остановившихся глазах.
Мария провела нас в полнейшей тишине через вестибюль и, прощаясь, напутствовала улыбкой с оттенком извинения.
– С отцом не всегда легко, но, поверьте, это добрейший человек, – пыталась она смягчить впечатление. – Жизнь его всегда била, знаете, да и болезнь не улучшает характер…
Она зажигала свет, открывала дверь, прощалась, а я все яснее видел в ее глазах желание что-то нам сказать, сомнение и, пожалуй, страх. Марина, кажется, тоже заметила это и ласково улыбнулась ей, протягивая руку на прощанье. Мария Шелли жарко ответила на рукопожатие. Одиночество этой женщины было видно так же ясно, как бывает виден пот на лбу или румянец стыда.
– Я не знаю, что вам рассказал отец… – робко проговорила она наконец, понизив голос и опустив глаза.
– Мария? – раздалось из глубины дома. – С кем ты там разговариваешь?
Она сразу замкнулась, помрачнев.
– Да, папа, я иду.
Последний ее взгляд, брошенный на нас, таил настоящее отчаяние. Повернувшись спиной, она легко уходила в сумрак дома, но я успел заметить на ее шее медальон – черную бабочку, развернувшую крылья. Тяжелые двери закрылись, и мы остались на лестничной клетке. Изнутри глухо доносились гневные тирады отца, отчитывающего за что-то дочь. Свет на лестнице вскоре погас. Мне показалось, что откуда-то пахнуло трупным смрадом. Послышались чьи-то тихие шаги на лестнице вверх. Запах исчез. Может, показалось.
– Идем-ка отсюда скорей, – попросил я Марину.
На обратном пути я заметил, что Марина то и дело исподтишка бросает на меня изучающий взгляд.
– А что, ты на Рождество не едешь домой?
Я отрицательно покачал головой, с напускной внимательностью изучая уличное движение.
– Почему же?
– Мои родители в постоянных разъездах. Мы уже много лет не встречались на Рождество.
Сам того не желая, я говорил отрывисто и почти злобно. Разговор оборвался. В молчании я проводил Марину до ворот их сада и простился.
Дождь начался, когда я уже подходил к школе. Сквозь его пелену я видел ряд окон четвертого этажа – свет был только в двух. Целых три недели никого не будет – все разъехались по домам, на рождественские каникулы. Так бывало каждый год – интернат на это время пустел, оставалась лишь парочка несчастных под присмотром своих наставников. Предыдущие два года мне бывало в это время несладко, а в это Рождество я нисколько не страдал – пожалуй, даже был доволен: мысль о том, чтобы уехать от Марины и Германа, казалась невыносимой. Мое одиночество кончилось.
Я прибавил к сотням моих восхождений по лестницам школы еще одно. Это крыло здания было совершенно пусто, и вокруг царила полная тишина. Может быть, оставалась донья Паула, пожилая вдова, которая убиралась на этажах и здесь же жила в маленькой комнате – оттуда доносилось бормотание включенного телевизора. Я прошел по коридору интерната мимо длинного ряда закрытых дверей, а когда добрался до своей и открыл ее, услышал такой громовой разряд, что испугался за здание – казалось, оно вздрогнуло. Молния была так ослепительна, что сверкнула сквозь щели закрытых ставен. Не раздеваясь, я рухнул на постель. Над городом бушевала гроза. Я достал карандашный рисунок Германа, сделанный им на пляже, и смотрел на Марину, пока не заснул от усталости. Проснувшись, я обнаружил, что все еще держу рисунок в руках, вцепившись в него во сне, как в чудодейственный амулет.
Пробуждение было резким, неприятным. Дул ветер, нагло ворвавшийся вместе с дождем в открытое окно, от холода зуб на зуб не попадал. Еще не очнувшись как следует, я испуганно нащупал выключатель лампочки в изголовье – свет не включился. Тогда я и заметил, что все еще судорожно сжимаю в руках рисунок Германа, с которым заснул. Я крепко протер лицо руками, и в этот момент в ноздри ударила вонь – ужасный смрад гниющей плоти. Прямо в моей комнате. Прямо в моей постели. Словно, пока я спал, кто-то бросил прямо на меня полуразложившийся труп кошки или вороны. Едва подавив рвотный позыв, я весь похолодел от паники: в комнате кто-то был. Тот, кто вошел вместе с ветром и дождем в открытое окно, пока я спал.
Едва дыша и вздрагивая, я ощупью пробрался к двери. Выключатель не сработал и там. Я выглянул в коридор, где тьма было совсем непроглядной, а гнилостный запах еще сильнее, как в звериной клетке. В торце коридора внезапно мелькнул свет и силуэт человека – кто-то входил в одну из комнат.
– Донья Паула? – прохрипел я.
Дверь в конце коридора закрылась – слабый отблеск света исчез, я снова оказался в полной темноте. Глубоко вздохнув, я шагнул в нее, не зная хорошенько, куда иду и зачем – и тут же остановился, потому что кто-то звал меня по имени. Свистящий, как змеиное шипение, шепот повторял его вновь и вновь. Как будто из соседней комнаты.
– Кто там? Это вы, донья Паула? – невпопад бормотал я, стараясь взять себя в руки и сохранять собственное достоинство, но дрожь во всем теле становилась лишь сильнее.
Я сделал еще один неуверенный шаг во тьму. Незнакомый голос, словно из кошмара, жестокий и недобрый, продолжал меня куда-то звать. Я никогда раньше не слышал его, этот голос. Дошло до того, что мне уже отказывали руки и ноги, я едва мог заставить себя двигаться, и тут дверь в мою спальню распахнулась у меня за спиной – распахнулась со свирепой силой, и на какую-то ужасную секунду мне показалось, что там разверзлась черная дыра, куда меня неудержимо втаскивает неведомая сила.
На моей постели, в центре комнаты, что-то поблескивало. С неожиданной четкостью я увидел, что это было: рисунок Германа, изображавший Марину, тот, с которым в руках я заснул. Но теперь его держали две других руки – два деревянных протеза крепко сжимали его.
С их грубо отрубленных торцов свисали какие-то кровавые лохмотья. Почему-то я сразу понял, что это искусственные руки Бенджамина Сентиса, те самые, которых недоставало его трупу, найденному в канализационном коллекторе под старым городом. Отрубленные начисто руки. Я никак не мог выдохнуть.