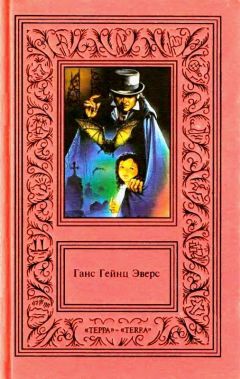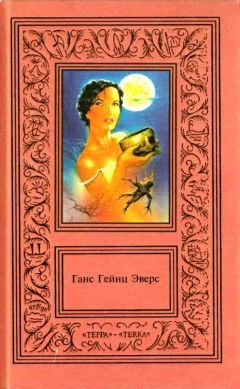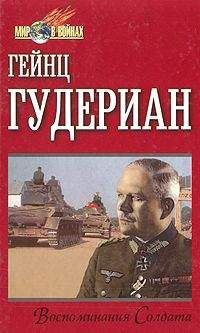В таких понятиях вырос Хонг-Док, сын князя, который сам должен был властвовать. Как и отец, он видел в европейцах людей, а не неразумных животных. Но теперь, когда блеск старого дворца возобновился, у него было больше времени присмотреться к этим чужеземцам, разобраться в той разнице, которая существовала между ним и ими и между ними самими. От постоянного общения с легионом его чутье в этом отношении стало таким же безошибочным, как и мое: он безошибочно узнавал в солдате господина и в офицере холопа, несмотря на золотые нашивки. Нигде образование не служит таким показателем происхождения и отличительным признаком господина от холопа, как на Востоке. Он хорошо видел, что все эти воины стоят на недосягаемой высоте над его народом — но не над ним. Если его отец и смотрел на каждого белого, как на равного себе, то он, Хонг-Док, относился к белым уже иначе: чем ближе и лучше он их узнавал, тем реже он находил среди них людей, которых он становил на одну доску с собой. Правда, все они были удивительные, непобедимые воины, и каждый из них в отдельности стоил сотни столь страшных китайцев — но была ли в этом особая заслуга? Хонг-Док презирал военное ремесло, как и всякое другое. Все белые умели читать и писать — их собственные знаки, конечно, — но это ему было безразлично; однако едва ли нашелся бы хоть один из них, который знал бы, что такое философия. Хонг-Док не требовал, конечно, чтобы они знали великого философа, но он ожидал найти в них какую-нибудь другую, хотя и чуждую для него, но глубокую премудрость. Однако, он ничего не нашел. В сущности, эти белые знали о причине всех причин меньше любого курильщика опиума. Было еще одно обстоятельство, которое сильно подорвало уважение Хонг-Дока к белым: это их отношение к своей религии. Не сама религия не нравилась ему. К христианскому культу он относился совершенно так же, как и ко всякому другому, который был ему известен. Нельзя сказать, что наши легионеры набожны, и ни один добросовестный священник не согласился бы дать ни одному из них св. Дары. И все-таки в минуты большой опасности из груди легионера может вырваться несвязная молитва, мольба о помощи. Хонг-Док заметил это — и вывел заключение, что эти люди действительно верят, что им поможет какая-то неведомая сила. Но он продолжал свои исследования — я, кажется забыл сказать вам, что Хонг-Док говорил по-французски лучше меня — он подружился с полковым священником в форте Вальми. И то, что он узнал у него, еще больше укрепило в нем сознание своего превосходства. Я хорошо помню, как он однажды, сидя со мной в своей курительной комнате, с усмешкой сказал мне, что теперь он знает, насколько реально христиане относятся к своему культу. Потом он прибавил, что даже сами христианские священники не имеют понятия о символическом.
Самое худшее было то, что он был прав; я не мог возразить ему ни слова. Мы, европейцы, верим, но в то же время не верим. А таких христиан, которые веру своих отцов превозносят, как прекрасное воплощение глубоких символов, таких в Европе можно искать с фонарем, здесь же, в Тонкине, вы их наверное совсем не найдете. Но это-то и представлялось восточному ученому самым естественным, неизбежным для образованных людей. И когда он этого совершенно не нашел даже у священника, который не понял его мысли, представлявшейся ему такой простой, то он потерял в значительной степени уважение к белым. В некотором отношении европейцы стояли выше его — но в таких областях, которые не имели для него никакой цены. В другом же они были ему равны; но во всем, что представлялось ему наиболее важным, в глубоком и отвлеченном миросозерцании, они стояли несравненно ниже его. И это презрение с течением лет превратилось в ненависть, которая все возрастала по мере того, как чужестранцы становились властелинами его страны, завоевывая ее шаг за шагом и забирая в свои сильные руки всю власть. Ему уже не оказывали больше тех почестей, какие оказывали его отцу, а потом и ему самому; он чувствовал, что заблуждался, и что роль старого каменного дома на Красной Реке навсегда окончена. Не думаю, что вследствие этого философ почувствовал горечь, потому что он привык принимать жизнь такой, какой она есть; напротив, сознание своего превосходства было для него источником радостного удовлетворения. Отношения, которые с годами создались между ним и европейцами, были самого простого свойства: он по возможности отдалился от них, но внешне его отношения были такие, какие бывают между равными людьми. Но в душу свою, в свои мысли, которые скрывались за угловатым желтым лбом, он не позволял больше никому не заглядывать, а если время от времени он разрешал это мне, то это происходило от его преданности мне, которую он всосал вместе с молоком матери и которую всегда поддерживал мой искренний интерес к его искусству.
Таков был Хонг-Док. Его ни на одно мгновение не могло вывести из самообладания то обстоятельство, что одна из его жен вступила в связь с китайским переводчиком или с моим индусским слугой. Если бы эта маленькая вольность имела последствия, то Хонг-Док просто велел бы утопить ребенка, но не из ненависти, или из чувства мести, а из тех же побуждений, из которых топят ненужных щенков. И если бы морской кадет попросил его подарить ему От-Шэн, то Хонг-Док сейчас же исполнил бы его просьбу.
Но морской кадет вошел в его дом, как равный ему, и украл жену, как холоп. С первого же вечера Хонг-Док заметил, что этот легионер из другого материала, а не из того, из которого состоит большая часть его товарищей; это я увидал уже по тому, что он был с ним менее сдержан, чем с другими. А потом — так мне кажется — морской кадет, вероятно, обращался с Хонг-Доком так же, как он обращался бы с хозяином замка в Германии, жена которого ему понравилась. Он пустил в ход всю свою обольстительную любезность, и ему, конечно, удалось подкупить Хонг-Дока, как он всегда подкупал меня и всех своих начальников: не было никакой возможности противостоять этому умному, жизнерадостному и хорошему человеку. И он обворожил Хонг-Дока до такой степени, что тот сошел с своего трона, — он, властелин, художник, мудрый ученик Конфуция, — да, он подружился и полюбил легионера, полюбил его сильнее, чем кого-либо другого.
Но вот один из слуг донес ему на его жену, и он увидел из окна, как морской кадет и От-Шэн наслаждаются любовью, гуляя в его саду.
Так вот для чего приходил он сюда. Не для того, чтобы видеть его — но для нее, для женщины, для какого-то животного. Хонг-Док увидел в этом позорную измену, он почувствовал себя глубоко оскорбленным… о, только не как европейский супруг. Нет, его оскорбило то, что этот чужестранец притворился его другом, и что он, Хонг-Док, сам подарил ему свою дружбу. Он был возмущен тем, что при всей свое гордой мудрости разыграл дурака по отношению к этому подлому солдату, который втихомолку, как слуга, украл у него жену; что он осквернил свою любовь, подарив ее человеку, который стоял так неизмеримо ниже его. Вот чего не мог перенести этот гордый желты дьявол.