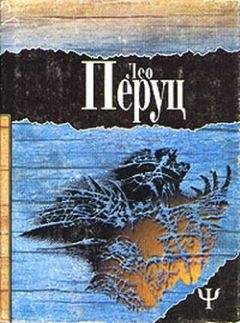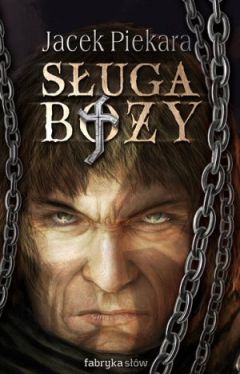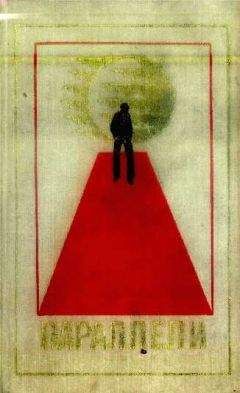– Не беспокойтесь, – ответил Лейнитцер. – Я сумею так наворковать ему о нашем деле, что ему понравится.
Молодой Альбрехт фон Вальдштейн, который, по мнению Лейнитцера, был тем самым «задубелым», который мог осуществить замысел Барвициуса, жил в маленьком, слегка покосившемся домике, расположенном чуть ниже Градчан, в той части города, которую называли Малой Страной. Из окон его чердачной комнаты была видна вся Прага вплоть до Страховского монастыря. Но когда он по утрам подходил к окну, его взгляд прежде всего натыкался на маленький огородик, который содержала вдова портного. Там, доставляя господину фон Вальдштейну невыносимые мучения, с утра до вечера вертелись две козы, десятка полтора кур и собака Люмпус. Самом собой разумеется, вся эта живность беспрестанно блеяла, кудахтала и тявкала. Но особую злость у молодого графа вызывал петух – мелкий, занудливый горлан, которого вдова звала Иеремией за его умение издавать столь горестное и печальное кукареканье, что казалось, будто он оплакивает скорби всего мира. Когда фон Вальдштейн не мог больше выносить весь этот шум, он бросал своего любимого Полибия и сбегал вниз по лестнице на кухню, где вдова портного колдовала с шумовкой над дымящимися горшками и сковородами. Он кричал, что не может этого больше выносить, что это сущий ад и что с шумом необходимо покончить, иначе он немедленно съедет с квартиры. Но вдова только смеялась и говорила, что держит кур не ради кудахтанья и что если господин хочет иметь молочный суп и яичницу, то ему следует мириться с присутствием коз и птиц, а что касается Иеремии, то дни его сочтены, ибо в ближайшее воскресное из него будет приготовлено отличное жаркое.
После обеда в огородике становилось потише. Люмпус больше не гонялся за козами и курами, а убегал носиться по улочкам Малой Страны. Обратно он заявлялся только ночью, всегда в одно и то же время, когда колокола церкви Лорето били двенадцать. Он начинал тявкать и скулить под окнами, прося, чтобы ему открыли дверь. От производимого им шума просыпался Иеремия и начинал оплакивать земную скорбь, а уж к нему подключались козы, после чего Вальдштейну оставалось только прижимать руки к ушам и кричать, что это не дом, а преисподняя и что он не останется здесь больше ни на одну минуту, ибо ни днем ни ночью ему нет покоя. Тем временем вдова впускала пса, который тихонько залезал в свой угол, потом успокаивались козы и, наконец, на время забыв мировую скорбь, засыпал Иеремия.
Но если огород с козами, Люмпусом и Иеремией были для Вальдштейна адом, то сразу же за ним начинался рай. Это был просторный парк, обнесенный красивой решеткой и живой изгородью. За старыми развесистыми деревьями парка виднелись черепицы, трубы и флюгера небольшого изящного замка. Там царила тишина, не было никакого движения и только ветер пролетал сквозь облетевшие кроны да изредка раздавалось негромкое постукивание дятла.
Парк и замок принадлежали Лукреции фон Ландек, молодой вдове, которая считалась одной из самых богатых наследниц во всем королевстве. Говорили, что многие кавалеры и высокие господа искали ее руки, но она всем отказывала, утверждая, что хочет остаться незамужней и передать свое неделимое богатство церкви. Ибо она была к тому же одной из самых набожных дам королевства. Толковали, что она каждый день слушает мессу в церкви Лорето и всегда носит при себе томик Евангелия, чтобы постоянно иметь слово Божие перед глазами. Она редко принимала участие в развлечениях, которыми столь обилен большой город, и почти не показывалась в придворном обществе. Зато она регулярно общалась с настоятелем собора Святого Витта, который состоял с нею в родстве, а также с двумя старыми девами из аристократического дамского кружка Град-чан и отцом-иезуитом из собора Святого Сальватора.
Альбрехт фон Вальдштейн любил стоять у окна и любоваться парком. Он сам не мог сказать, почему он это делает. Иногда в его сердце просачивалась горечь, и ему вспоминалось унаследованное от отца именьице, которое еще в его отроческие годы пошло с молотка под тяжестью долгов. Иногда он видел, как Лукреция Ландек беседовала со своим молодым садовником, неизменно появлявшимся с огромным букетом свежих роз. Издалека она казалась ему не очень высокорослой, но прекрасно сложенной и грациозной. Черты ее лица он не мог различить. К тому же у него зародилось сомнение, что это действительно была Лукреция: ведь он мог видеть одну из ее приближенных.
Так жил Альбрехт фон Вальдштейн, созерцая свой ад и рай, до того самого дня, когда в его чердачную комнатку явился Георг Лейнитцер.
Лейнитцер долго ломал себе голову над тем, как лучше подъехать к Вальдштейну со своим делом, и решил прежде всего как следует расхвалить Барвициуса, своего патрона. Он распространялся о том, какой это редкостный человек, и как его все уважают при дворе, и как перед ним отворяются все двери, и как он умеет употреблять свое влияние на благо своих друзей, и как кстати было бы для Вальдштейна свести знакомство с этим ангелом во плоти.
– Так кто же этот господин, о котором вы мне говорите? – осведомился Вальдштейн. – Он облечен должностью при дворе? Или занимает пост в правительстве королевства?
Лейнитцер неопределенно помахал рукой.
– Об этом позже, – интригующим тоном пояснил он Вальдштейну. – Пока я могу вам сказать только, что он сам себе хозяин. В данный момент его имя упоминать не обязательно. Между собой мы зовем его не иначе как патрон. Я имею в виду нескольких моих друзьях, которые иногда также оказывают ему услуги. И чтобы сказать вам все: я говорил с ним о вас и сообщил, что только вы и никто другой являетесь человеком, способным помочь ему в одном очень важном деле.
– А что это за дело? – спросил Вальдштейн.
– Об этом тоже позднее, – отвечал Лейнитцер. – Насколько я могу объяснить вам уже сейчас, речь идет о некой акции, предпринимаемой дворцовой чешской партией против испанской партии, так как именно глава испанской группировки…
– Благодарю вас, но мне это не подходит. С дворцовыми интригами и делами государственной политики я не хочу связываться! – обрезал Вальдштейн, ибо думал о своем будущем и не хотел наживать себе врагов ни в одной из борющихся за влияние при дворе группировок, будь то богемская, чешская, испанская или австрийская партия.
Лейнитцер мгновенно понял свою ошибку и поспешил ее исправить.
– Собственно говоря, это вовсе не политическое дело, – заверил он Вальдштейна. – Возможно, мне еще нельзя об этом говорить, но я хочу заверить вас, что человек, которого надо извлечь из его дома и доставить в одно надежное место, не более причастен к дворцовой и государственной политике, чем вон те куры в огороде!