Но и в этой деревушке все же была своя прелесть. Там жили рыбаки, чьи хрупкие длинные каноэ с веслами и парусом качались на прибрежных волнах. На верандах были развешены сети, сплетенные с помощью раковин каури. Некоторые женщины одевались в грязные ситцевые платья и юбки, повязывали волосы бумажными рождественскими ленточками и бантами и носили в ушах дешевые пластмассовые клипсы; другие же, в травяных юбках, с цветами и листьями в волосах, сидели на корточках у входа в хижины. Они расхаживали парами и тройками по деревенской улице с высокими плетеными корзинами, полными картофеля или дров, поставленными на головы или болтающимися за спиной. По вечерам у разведенного на берегу костра собирались молодые ребята и девушки, плясали и, покачиваясь в такт музыке, пели народные и миссионерские песни. И повсюду сновали маленькие, голые, пузатые дети, гоняя свиней и тощих собак, или сидели у костра, в свете которого сияли их тела и сверкали фарфоровым блеском белки огромных, черных, словно у чертят, глаз.
В деревне витал дух кипучей энергии и душевной теплоты, чего нельзя было сказать о городке в полутора километрах от нее, населенном европейцами, где люди жили шумно, но не весело и постоянно страдали от того, что чувствовали себя чужими на этой земле.
Полгода назад Вашингтон подумывал поселиться здесь, но побоялся. Такой шаг могли расценить как непростительное нарушение всех норм поведения белых людей. Но он всегда, даже сейчас, чувствовал себя здесь хорошо и спокойно. Ему казалось, что в городе белых все стремились уехать, тосковали о других краях и ненавидели эту страну. Жители же деревни крепко держались корнями за эту примитивную землю, и связь эта не прервалась и теперь. Не зная другой жизни, они не задавались вопросом, где лучше. Конфликт только начинал разгораться. Туземцы стали ощущать смутное неудовлетворение, но по крайней мере со стороны казалось, что они все так же довольны жизнью. Вашингтона не беспокоил грохот ржавой жести и шум хлопающих на ветру лохмотьев: он уже давно перестал обращать на это внимание.
Сильвия, однако, не разделяла его чувств. Каждый раз, когда она видела эти тростниковые хижины, у нее сжималось сердце.
— Ненавижу это место, — сказала она, когда они подъезжали к центру деревни. — Здесь такая грязь, разруха, нищета.
— Ерунда, — ответил Вашингтон. — Ты просто не можешь разглядеть красоту. У тебя глупое, мещанское мышление. Ты пропадаешь здесь; тебе надо было бы отправиться в Гонолулу с леями на шее. Ты смотришь на небо, только когда там алеет закат. А в пасмурный день ты из дому и носа не показываешь. Ты думаешь, что все папуасы не старше двадцати одного, все увешаны собачьими зубами и с гибискусом в волосах. Ты воротишь нос от здешних женщин. Я покажу тебе настоящего красавца. Сейчас увидишь Коибари.
Он их ждал. Посередине деревни росло большое ореховое дерево. Прошлогодние листья трепетали красными и оранжевыми огоньками в свежей зеленой листве. Вокруг его ствола собрались папуасы со свертками и пакетами, ожидающие, судя по всему, автобуса; местные жители были в хлопчатобумажных рами, а чужаков из отдаленных деревень отличали ожерелья, перья и повязки на руках. Когда Вашингтон остановил джип, от толпы отделился человек и направился к ним. Он двигался как-то скованно, немного боком, словно краб. Его лицо было все в морщинах, в черном безгубом рту все еще торчало несколько темных от арека зубов. На нем была рваная рами цвета хаки, подпоясанная веревкой, о бедро бился свисающий с пояса черный мешочек. Ноги его покрывали красные язвы. Надо лбом торчала копна спутанных волос, а довершал эту ужасную картину венок из розовых цветов. Пока он медленно брел к джипу, остальные туземцы пятились назад или потихоньку расходились, сверкая белками глаз.
— О господи! — воскликнула Сильвия, по-детски прижимая ладони к щекам.
Вашингтон зарделся от волнения.
— Правда, он чудо? Сам дьявол во плоти! Посмотри на эти красные злобные глазки, словно у коварного поросенка.
— Ох, зачем он тебе нужен? — спросила Сильвия, содрогаясь. Она и сама не знала, что именно наполняет ее страхом. Но не только вид этого жующего старика, который стоял в нескольких шагах от них и сплевывал на землю. Ее больше пугало выражение лица Филиппа.
— Все в округе его боятся, — сказал он. — Это очень могущественный колдун. Люди нанимают его, чтобы он наводил чары на их врагов. Видишь этот черный мешок? У него там всякая ерунда. Осколки старых костей, раковины, камни и еще бог знает что. Это все незаконно. Он два раза сидел за колдовство. В последний раз районный комиссар отобрал у него мешок и спалил его, но он сделал себе другой.
— Зачем он тебе нужен? — вскричала Сильвия.
Глаза его потухли. По лицу промелькнула мрачная тень, и он замкнулся в себе. Похоже, спустился с небес на землю и теперь пытался скрыть, что витал в облаках. Он улыбнулся.
— Ради забавы. Мне нравятся старики, они мне интересны. Теперь уже немного их осталось, и только они одни могут рассказать, как жили люди в прежние времена. Эти юнцы, — он презрительно взмахнул рукой, — даже не знают песен своих отцов; они не помнят древних преданий. Я знаю об их культуре больше, чем они сами. Хорошо еще, что есть такие люди, как я, которые охотно разговаривают со стариками, чтобы узнать что-нибудь о прежних временах. Потом будет поздно. — Он поманил старика, и тот, шаркая ногами, бочком, словно краб, поплелся к ним своей странной походкой. О бедро бился черный мешочек, а впереди старика, словно ветер, неслось терпкое, удушливое зловоние.
Не посмотрев на Филиппа, он уселся рядом с ним в машину и со странным животным урчанием потерся о спинку.
— Поехали? Все готовы? — весело спросил Филипп и запустил мотор. Джип покатил по дороге вдоль причала. Они не разговаривали; Вашингтон что-то напевал, Коибари сопел и урчал. Когда они проезжали по главной улице города, Сильвия, которая сидела, высунувшись из окна, с развевающимися на ветру волосами, села прямо, повернулась и потребовала:
— Филипп! Отвези его назад! Мне страшно!
— Не глупи, — с раздражением сказал Филипп. Но она перегнулась через сиденье, сжала рукой его колено и заговорила с несвойственной ей настойчивостью:
— Филипп, прекрати заниматься ерундой и уходи. Уходи из этого дома. Жизнь в одиночестве на холме плохо на тебя действует. Меня в дрожь бросает от всех этих светляков, летучих лисиц и проклятых керемов, всю ночь стучащих на своих барабанах. Мне страшно!
Он на минуту оторвал взгляд от дороги и презрительно посмотрел на нее.
— И куда же я пойду, позволь спросить?
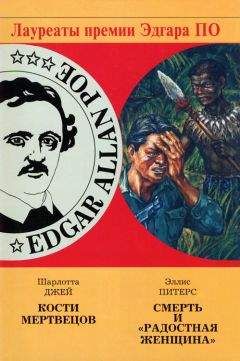
![Владимир Михайлов - Восточный конвой [ Ночь черного хрусталя. Восточный конвой]](https://cdn.my-library.info/books/67336/67336.jpg)



