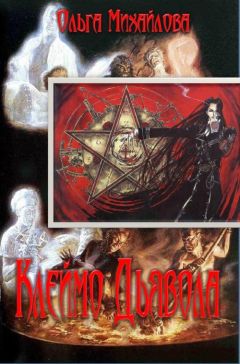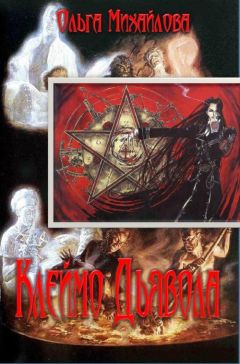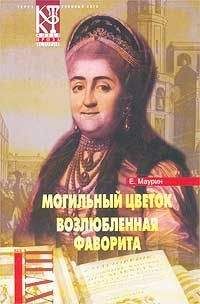Слова эти запомнились Эрне.
Гиллель не удивился, увидев мисс Эрну, и выразил своё восхищение этой неожиданной встречей и цветущей красотой мисс Патолс. Эрна со смущённым видом опустила длинные ресницы, её божественная грудь в вырезе платья слегка порозовела. За двадцать тысяч всё это уже сегодняшней ночью могло бы оказаться в его полном распоряжении, и Хамал давно знал это — из помыслов Мориса де Невера да и намеков самой Эрны. Сумма была ничтожна для него, и утереть нос мерзкому волкодлаку Нергалу, облизывавшемуся на Эрну, было бы неплохо.
Но мысли самой Эрны о том, как славно будет порыться в его вещах после того, как он уснёт, не привели Хамала в восторг. Не вдохновили его и размышления мисс Патолс о его мужских достоинствах, которые она оценивала, сообразуясь с его субтильностью, весьма невысоко.
Что бы ты, дура, понимала…
Но объяснить Эрне всю глубину её заблуждения он не мог, и потому, галантно улыбнувшись, Гиллель проникновенно поделился с ней своим беспокойством по поводу возможного провала на экзамене по немецкому языку. Да-да, он очень встревожен и все оставшиеся до него дни и ночи вынужден будет зубрить, как одержимый.
Хамал основательно взбесил Эрну, глаза её сверкнули. Сначала Невер, а теперь и этот? Что воображает о себе этот недоносок? Быть может, это простая скаредность? Говорят, все евреи жадны до одержимости. Похоже на правду. А может, этот червяк просто ни на что не способен? Есть ли там вообще что-нибудь в штанах? Тут она заметила, что дыхание Хамала стало короче и прерывистей, а глаза неестественно оледенели. Странный он какой-то. Может, слегка — того? Она с недоумением смотрела на побледневшего Гиллеля, но решила сделать ещё одну попытку.
Не позаниматься ли им вместе? Немецкий — её больное место, профессор Пфайфер говорит, что у неё сильный акцент. Надо поработать над произношением. Она могла бы зайти к нему сегодня, около полуночи. Он не возражает? Хамал не возражал. Он как раз договорился о совместных занятиях с Генрихом Виллигутом, и будет очень рад, если Эрна составит им компанию. Энтузиазм мисс Патолс к совершенствованию в немецком заметно поугас. Да-да, она, может быть, зайдет… Может быть… Так вот в чём дело!
Она чуть не плюнула с досады.
Хамал, наслаждаясь её возмущением мерзкими мужеложниками, от которых скоро житья никому не будет, улыбнулся ей на прощание почти сочувственно. "Die teuflische Hure! Пока среди баб встречаются такие мерзавки, как ты, лучше и впрямь слыть педерастом", ядовито подумал он, глядя вслед удаляющейся Эрне.
Несколько раз, внимательно читая мысли сокурсников и сокурсниц, он вставал в тупик при странностях мышления этой особы, склонной шастать в полнолуние по Меровингу, словно не замечая стен. По счастью, замки сейфов ей были недоступны, и Хамал любовно погладил рукой ключи от своих шкафов, закреплённые на поясе.
Мужская аморальность зло глумилась над женской безнравственностью.
Удаляясь в противоположную сторону, он неожиданно подумал, что за тридцать тысяч эта тварь может согласиться на его изыски, и даже позволить… но он не стал размышлять дальше, презрительно махнув рукой. Эрна вызывала в нём такое омерзение, что даже возможность удовлетворить за её счет свою извращённую похоть его не привлекала.
При этом ни Эрна, ни Хамал не заметили удвоившейся за время их разговора тени от колонны в библиотечном портале. Когда Хамал ушёл, она обрисовала густые пепельные волосы и аскетичную худобу Фенрица Нергала, бесшумно проскользнувшего затем в апартаменты Мормо.
Часть 3. Ноябрьское полнолуние. Луна в Тельце
Глава 12. Баб, что ли, мало?
Но где премудрость обретается? и где место разума?
Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых.
Не дается она за вес серебра; не оценивается она ни золотом Офирским,
ни драгоценным ониксом, ни сапфиром.
Иов, 28,13.
Если бы глаз мог видеть демонов, населяющих Вселенную,
существование было бы невозможно.
Талмуд, Берахот, 6.
С похорон Лили минул почти месяц. Поздняя осень медленно вступила в Меровинг, золотисто-багряная листва осыпалась с древесных ветвей, ноябрьский воздух стал как-то призрачнее и прозрачнее. На настенном календаре Хамала чернела цифра "25". Гиллеля распоряжение декана нисколько не обеспокоило. Он и так просиживал в своей комнате дни и ночи напролёт. Осторожно перелистывал рулоны ветхих свитков, иногда что-то писал, иногда подходил к окну и долго смотрел в серое небо.
Приближение зимы почему-то всегда нервировало Хамала.
Он попытался успокоиться. Открыл тяжелый свиток, за который покойный отец заплатил несколько сотен гиней, наткнувшись на него в Лондоне. "Бог читает Талмуд стоя…" Пытался вдуматься в содержание, но понял, что это бессмысленно. Что-то коробило и мучило его, какая-то странная изнуряющая тоска тяготила и не давала покоя.
Что с ним?
Гиллель отложил свиток. Потом из запертого шкафа, дважды проверив запоры на двери, извлёк инкрустированную серебром шкатулку с надписью на древнееврейском. Погрузил пальцы в мерцающее сияние драгоценных камней. Он знал и чувствовал их, как никто. Собранные вместе, они одновременно околдовывали его и успокаивали. Он вертел в тонких пальцах ярко-зеленый хризоберилл, зеленоватый перидот и фиолетово-красный уваровит, блестящий сухо, как налет в винных бочках. Изумруды и рубины он не любил за излишнюю яркость. Топаз опошлился на мясистых мочках толстых лавочниц, жаждущих задешево увеситься драгоценностями. Только сапфир не продался. Токи его вод ясны и прохладны, но при свете лампы — увы, его пламя гаснет. Нравился Хамалу своим порочным свечением и цимофан, опалы хороши были неверностью блеска, зыбкостью тонов и мутью, но слишком обманчивы и капризны. Бриллиант хоть и завораживал Хамала, но, Боже, как он опошлился с тех пор, как им стали украшать свои руки торгаши. Все опошляется. Даже совершенство. Нет. Не то. Всё не то. Что-то услышанное совсем недавно вонзилось в душу, словно заноза, и мучительно ныло.
Хамал вспомнил встречу с Эрной. Мерзавка и шлюха. Он был задет и взбешен её мыслями о нём, но нет, понял он, не это угнетало его.
Гиллель погрузился в воспоминания. Три года назад он снял дом в Париже, и принимал у себя женщин в будуаре цвета индийской розы, сияние которого омолаживало кожу блудниц, поблекшую от свинцовых белил и увядшую от ночных излишеств. Он жаждал испить чашу самых ядовитых плотских безумств — но чертово неизбывное понимание самых потаенных мыслей последней из кокоток убивало его. Он перестал волноваться женщинами, однообразие ласк приелось и опротивело, тоска понимания сокровенного неизбежно одолевала его. Чувства его впали в летаргию, и только опуская на спину девки в лупанаре кнут и слыша её визг, он ненадолго оживлялся.