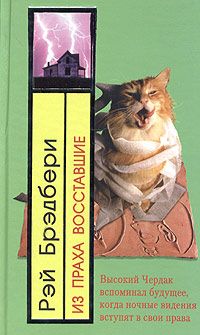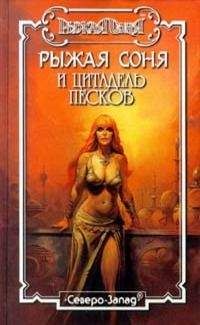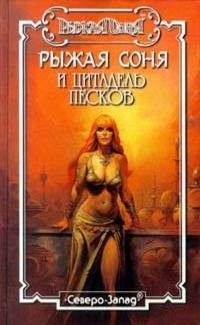Рядом с одним из домиков, в прозрачных сумерках, совсем еще юная — не старше девятнадцати лет — девушка весело поднимала из глубокого, с каменной кладкой колодца, ведро воды.
Сеси — сухой листок — упала в колодец. Она проникла в мягкий мох, устилавший стенки колодца, и задержалась там на мгновение, глядя вверх, в темную прохладу. Затем она перебралась в дрожащую, не видимую глазом амебу. Затем — в капельку воды. И наконец, в холодной жестяной кружке была поднесена к теплым губам. Несколько глотков — негромкие, мирные звуки в сумеречном воздухе.
Сеси выглянула из глаз девушки.
Она смотрела на руку, держащую ручку ведра. Слушала через миниатюрные ракушки ушей звуки ее — этой девушки — мира, обоняла его запахи через тонкие изящные ноздри. Чувствовала, как бьется незнакомое прежде сердце, чувствовала незнакомый язык в незнакомом рту.
Девушка испуганно вздрогнула, ее взгляд метнулся к ночному лугу.
— Кто там?
Тишина.
— Это просто ветер, — шепнула Сеси.
— Просто ветер, — неуверенно засмеялась девушка.
У нее было хорошее и удобное тело. В нем под округлой, упругой плотью таились изящные, тончайшей работы кости. Ее мозг был подобен пунцовой розе, ее рот полнился чуть терпким вкусом сидра. Губы прочно покоились на сверкающей белизне зубов, глаза смотрели на мир из-под совершенных, как классические арки, надбровных дуг, мягкие блестящие волосы легко опадали на пенно-белую спину. Поры на ее коже были маленькие и туго сомкнутые. Аккуратный, чуть вздернутый нос и нежный румянец щек. Это тело легко, без малейшего принуждения переходило от одного движения к другому и все время что-то про себя напевало. Пребывать в этом теле было как нежиться у камина — или жить в мурчанье сонной кошки — или лениво плескаться в теплой полночной воде текущего к морю ручья.
— Да! — подумала Сеси.
— Что? — удивилась девушка, словно ее услышав.
— Как тебя звать? — осторожно спросила Сеси.
— Энн Лири, — сказала девушка и вздрогнула. — А зачем я сказала это вслух?
— Энн, Энн, — прошептала Сеси. — Энн, ты будешь любить, скоро.
И словно в ответ ей, от дороги рванулся рев мотора, скрежет покрышек по гравию. В большой, с открытым верхом машине сидел высокий юноша, рулевая баранка почти терялась в его огромных ручищах, широкая улыбка словно светилась своим собственным светом.
— Энн!
— Это ты, Том?
— А кто ж еще? — Он расхохотался и выпрыгнул из машины.
— Я не желаю с тобой разговаривать! — Энн крутнулась к Тому, едва не расплескав ведро.
— Нет! — крикнула Сеси.
Энн застыла, рассматривая далекие холмы и первые звезды. Глядя на юношу по имени Том, Сеси заставила ее пальцы разжаться и выронить ведро.
— Вот видишь, что ты наделал!
Том подбежал к ней.
— Видишь, что я из-за тебя сделала!
Том выхватил носовой платок, нагнулся и начал со смехом вытирать ее туфли.
— Убирайся!
Энн пнула руку Тома, но он только опять рассмеялся; Сеси видела размер и посадку его головы, крупный нос, живо блестящие глаза, ширину его плеч, твердую силу его рук, осторожно орудующих носовым платком. Глядя вниз из своего убежища на чердаке ладного тела Энн, Сеси дернула тайную чревовещательную веревочку, и прелестный рот распахнулся:
— Спасибо.
— О, так мы, оказывается, умеем быть учтивыми!
Запах кожи от его ладоней, запах автомобиля от его одежды коснулся нежных ноздрей, и далеко-далеко, за ночными лугами и осенними полями, Сеси пошевелилась на своей постели, словно увидев сон.
— Уж только не с тобой! — вскинула носик Энн.
— Тс-с, тс-с, говори поласковее, — сказала Сеси и направила пальцы к макушке Тома. Энн тут же их отдернула.
— Я совсем сошла с ума!
— Точно, — кивнул Том, по его лицу блуждала растерянная улыбка. — Ты что, хотела до меня дотронуться?
— Не знаю, я ничего не знаю! Уходи! — Ее щеки пылали, как угли.
— Чего ты боишься? Убегай, я же тебя не держу. — Том распрямился. — Ну так как, передумала? Ты пойдешь со мной на танцы?
— Нет! — твердо сказала Энн.
— Да! — закричала Сеси. — Я никогда еще не танцевала, не носила длинное шуршащее платье. Я никогда еще не испытывала, что это такое — быть женщиной, танцевать, папа и мама мне не разрешают и не разрешат. Собаками, кошками, кузнечиками, листками — я побывала всем на свете, только не пробуждающейся женщиной в такую, как эта, ночь. Ну пожалуйста, мы должны пойти на танцы!
Она расправила свои мысли, как пальцы руки, вдеваемой в новую непривычную перчатку.
— Да, — кивнула Энн Лири. — Не понимаю почему, но я пойду сегодня с тобой.
— А теперь домой, скорее! — крикнула Сеси. — Умойся, скажи родителям, надень платье. Скорее, скорее!
— Мама, — сказала Энн, — я передумала.
Машина с ревом улетела. В доме, куда вернулась Энн, закипела бурная жизнь; в ванне плескалась горячая вода, мать бегала, набрав в рот целый частокол шпилек.
— Что с тобою, Энн? Он же тебе не нравится.
— Да, не нравится. — Энн замерла: островок неподвижности в море лихорадочной суеты.
— Но это же прощание с летом! — подумала Сеси. — Возвращение лета перед приходом зимы.
— Лето, — сказала Энн. — Прощание.
— Самое время потанцевать, — подумала Сеси.
— …танцевать, — пробормотала Энн.
А потом она была в ванне, и мыльная пена на ее гладких, как у нерпы, плечах, и маленькие гнезда пены у нее под мышками, и теплая плоть ее грудей скользила в ее ладонях, и Сеси шевелила ее губами, складывая их в улыбку, подгоняла ее тело и не давала передышки, иначе все может рухнуть. Энн Лири должна все время двигаться, действовать, намылиться здесь, ополоснуться там, подняться из ванны.
— Ты! — Энн увидела себя в зеркале: сплошь белизна и румянец, лилии и гвоздики. — Кто ты такая?
— Семнадцатилетняя девушка. — Сеси глядела из ее фиалковых глаз. — Ты не можешь меня увидеть. Ты знаешь, что я здесь?
— Что-то тут не так, — покачала головой Энн. — Наверное, моим телом завладела предосенняя колдунья.
— Почти угадала, — рассмеялась Сеси. — Одевайся!
Прекрасное ощущение тонкого шелка, ползущего по шелковистой коже. А затем — окрик со двора.
— Энн, Том вернулся!
— Скажи ему… нет, подожди. — Энн села на стул. — Я не пойду на эти танцы.
— Что? — возмутилась ее мать.
Сеси испуганно вздрогнула. Ведь ясно же было, что нельзя оставлять Энн без присмотра, ни на секунду нельзя, ни на полсекунды. А тут вдруг донесся рев машины, спешащей через залитое лунным светом поле, и ей захотелось найти Тома, посидеть немного в его голове и ощутить, что это такое — быть двадцатидвухлетним юношей в такую ночь. Она было кинулась ему навстречу, а теперь пришлось вспугнутой птицей, опрометью летящей в оставленную клетку, стремглав нестись в смятенную голову Энн.
— Энн!
— Скажи ему, чтобы уходил!
— Энн!
Но Энн была непреклонна.
— Нет, я его ненавижу!
Нельзя было уходить ни на секунду. Сеси влила свою волю в руки юной девушки, в ее сердце, в ее голову, и все тихо, осторожно, чтобы не спугнуть.
— Встань, — подумала она.
Энн встала.
— Надень плащ.
— Энн надела плащ.
— Иди!
— Нет!
— Иди!
— Энн, — сказала ей мать, — идешь ты, в конце концов, или нет? Что это с тобой?
— Ничего, мама. Спокойной ночи. Мы вернемся поздно.
Комната, полная танцующих голубей, взъерошенные перышки, хвосты наотлет. Комната, полная павлинов, полная сияющих глаз и света, а посреди нее кружится, кружится, кружится Энн Лири.
— Какой прекрасный вечер! — сказала Сеси.
— Какой прекрасный вечер! — сказала Энн.
— Ты какая-то странная, — сказал Том.
Музыка вихрем кружила их в полумраке; в потоках песни они плыли, они вырывались на поверхность, они тонули и задыхались, и вновь всплывали, чтобы хватить глоток воздуха, они цеплялись друг за друга, как утопающие, и кружились среди шепота и вздохов, под звуки «Прекрасного Огайо».