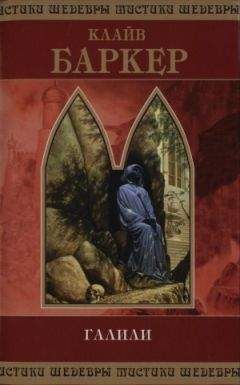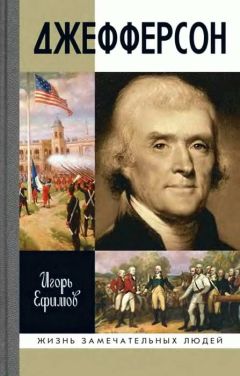В комнате, смежной с кабинетом, где я пишу эти строки, Никодим хранил свою коллекцию редкостей, значительная часть которых — согласно его настоятельному требованию — была похоронена вместе с ним после его кончины. Среди прочего здесь находились череп первой лошади Никодима, а также обширное и поражающее воображение собрание всякого рода приспособлений всех времен для усиления ощущений истинных ценителей сексуальных наслаждений. (Про каждый из этих предметов отец мог рассказать историю, по большей части весьма занятную.) Были здесь и другие ценности. Латная перчатка Саладина — мусульманина, которого любил Ричард Львиное Сердце, свиток, написанный для отца в Китае; как-то он поведал мне, что на этом свитке представлена вся история мира (хотя мой невежественный взор различал там лишь пейзаж, изрезанный извилистой ленточкой реки). Были и многочисленные изображения мужских гениталий — лингам, ведьмина флейта, скипетр Аарона (или, пользуясь излюбленным выражением отца, El Santo Membro — Священный Член). Думаю, многие из этих изображений были собственноручно вырезаны или вылеплены служившими отцу жрецами и таким образом представляли собой орган, ставший причиной моего появления на свет. Некоторые из них до сих пор стоят на полках. Вы можете счесть это странным и даже безвкусным. Не буду спорить. Но отец мой был исполнен мужской мощи, и эти статуэтки при всей своей примитивности дают о нем представление большее, чем могли бы дать какая-нибудь книга о его жизни или тысячи фотографий.
Но полки занимают не только подобные экспонаты. За несколько десятилетий я собрал богатую библиотеку. Хотя изъясняюсь я только по-английски, по-французски и с грехом пополам по-итальянски, читать могу на древнееврейском, латыни и греческом, так что среди книг моих преобладают старинные фолианты, посвященные мистическим предметам. Когда человек, подобно мне, не испытывает недостатка в досуге, любознательность его порой приобретает причудливые формы. В научных кругах меня, возможно, сочли бы подлинным знатоком по части некоторых вопросов, до которых, однако, нет ровным счетом никакого дела людям, поглощенным суетными заботами повседневности — воспитанием детей, налогами, любовью.
Отец мой, будь он жив, не одобрил бы моей страсти к собиранию книг. Он не любил видеть меня за чтением. Это напоминало ему, как он сам не раз признавался мне, об обстоятельствах, при которых он потерял мою мать. Кстати, слова эти по сей день остаются для меня загадкой. Единственной книгой, изучение которой отец поощрял, был том всего из двух страниц — о том, что скрывается между ног женщины. Когда я был ребенком, отец прятал от меня бумагу, перо и чернила, и, как и следовало ожидать, эти запретные плоды приобрели для меня особую сладость. Но отец упорствовал в своем намерении сделать из меня непревзойденного знатока по части лошадей, которые были его второй великой страстью после плотских утех.
В юности я, подчиняясь его воле, объездил чуть не весь свет, продавая и покупая лошадей, отправляя их в «L'Enfant» и обучаясь судить об их достоинствах и недостатках столь же проницательно, как делал это отец. Я добился в этом деле немалых успехов, бродячая жизнь была мне по вкусу. Во время одной из таких поездок я встретил свою ныне покойную жену Чийоджо и привез ее сюда, в этот дом, чтобы отныне вести спокойную семейную жизнь. Однако моим благим намерениям не суждено было осуществиться, виной тому оказался ряд трагических событий, повлекших за собой смерть моей жены и Никодима.
Однако я непозволительно забегаю вперед. Вернусь к прерванному рассказу о комнате и о диковинных предметах, вместилищем которых она некогда служила: фаллических статуэтках, китайском свитке, лошадином черепе. Что еще там хранилось? Постараюсь припомнить. Колокольчик, в который, по утверждению Никодима, звонил прокаженный, исцеленный у Распятия (кстати, этот колокольчик отец тоже забрал с собой в могилу), шкатулка размером не больше ящичка для сигар, издававшая, стоило к ней прикоснуться, странную заунывную мелодию, причем звук так напоминал человеческий голос, что поневоле верилось в слова отца, утверждавшего, будто в запечатанном нутре шкатулки скрывается живое существо.
Вы вольны принимать или не принимать это на веру. Но хотя отец мой оставил сей мир без малого сто сорок лет назад, я далек от того, чтобы назвать его лжецом на бумаге. Отец был не из тех, кто терпеливо сносит, когда рассказы его подвергают сомнению, и, хотя его давно нет среди нас, я отнюдь не уверен, что нахожусь сейчас вне пределов его досягаемости.
Как бы то ни было, это отличная комната. Вынужденный проводить здесь большую часть дня, я досконально изучил все ее особенности, и, окажись передо мной Джефферсон собственной персоной, я заявил бы ему со всей откровенностью: сэр, я и мечтать не мог о более приятной тюрьме, никакая другая комната на свете не вдохновила бы мой разум на столь вольный полет.
Но если я так счастлив, сидя здесь с книгой в руках, какие же причины, спросите вы, побудили меня взяться за перо и доверить бумаге эту историю с неотвратимым трагическим финалом? Зачем добровольно обрекать себя на мучения, когда я могу выкатиться в своем кресле на балкон и преспокойно сидеть там, почитывая Фому Аквинского и любуясь цветущими мимозами?
На то есть две причины. Первая из них — моя сводная сестра Мариетта.
Вот какой разговор произошел между нами. Около двух недель назад она вошла ко мне (как обычно без стука), как обычно, не спрашивая позволения, плеснула джина себе в стакан и, без приглашения усевшись в отцовское кресло, начала:
— Эдди...
Она отлично знает, что я ненавижу, когда меня называют Эдди. Полное мое имя — Эдмунд Мэддокс Барбаросса. Я ничего не имею против имени Эдмунд, ни против имени Мэддокс, в годы юности меня называли даже Ох [1], и я отнюдь не находил это оскорбительным. Но Эдди? По моему разумению, Эдди — это тот, кто способен ходить. Тот, кто способен заниматься любовью. Так что я ничуть не похож на Эдди.
— Опять ты за свое? — буркнул я.
Мариетта откинулась на спинку отчаянно заскрипевшего кресла и злорадно улыбнулась.
— Знаю, тебя это раздражает, — сообщила она.
Должен заметить, весьма типичный для Мариетты ответ. Она — воплощенное упрямство, хотя, глядя на нее, этого не скажешь. Я не собираюсь восхвалять прелести своей сводной сестрины (достаточно того, что многочисленные подруги Мариетты превозносят ее до небес), но признаю, что она красивая женщина по любым меркам. Когда она улыбается, то немного напоминает отца, в ее улыбке тоже есть что-то плотоядное. Но когда лицо Мариетты спокойно, она выглядит истинной дочерью своей матери, Цезарии; если она задерживает на тебе полный невозмутимой уверенности взгляд из-под лениво опущенных век, то взгляд этот кажется почти осязаемым. Она невысокая, моя Мариетта, — без каблуков немногим более пяти футов, и теперь, утонувшая в громадном кресле, с бесхитростной улыбкой на устах, она напоминает маленькую девочку. Воображению моему не требуется усилий, чтобы представить рядом с ней отца, покачивающего ее на своих огромных руках. Возможно, сидя в этом кресле, она представляет себе ту же картину. Возможно, именно это воспоминание заставило ее произнести: