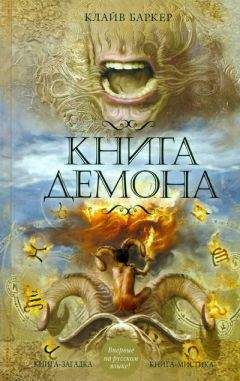Я стоял в полутора шагах от костра и чувствовал его неистовый жар, но не хотел отступать, хотя мои маленькие усы, за которыми я бережно ухаживал (ведь они были первыми), скрутились от жара в спиральки, дым выедал ноздри, в глазах стояли слезы. Ни за какие демонские блага я не позволил бы матери увидеть мои слезы. Я поднял руку, чтобы быстро стереть их, но в этом не было нужды. От жара слезы испарились.
Конечно, если бы мое лицо — как у вас — было обтянуто не чешуей, а нежной кожей, она покрылась бы волдырями, пока я смотрел, как огонь пожирает мои дневники. Чешуя же хоть ненадолго, но защитила меня. Потом возникло ощущение, что мое лицо поджаривают на сковороде. Но я все равно не двинулся. Я хотел быть как можно ближе к моим любимым, выстраданным словам. Я стоял на месте и смотрел, как огонь делает свое дело. Пламя методично уничтожало страницу за страницей: сжигало одну и открывало под ней следующую, чтобы быстро пожрать и эту. Перед глазами на миг появлялись строки про машины смерти или планы мести, и огонь тут же изничтожал их.
Я замер, вдыхая обжигающий воздух, и разум мой наполнился видениями ужасов, которые мое воображение запечатлело на тех листках. Там были грандиозные изобретения, призванные уничтожить моих врагов (то есть всех, кого я знал, потому что я никого не любил) настолько мучительно и люто, насколько хватало моего воображения. Я даже забыл о присутствии матери. Я просто таращился на огонь, и сердце тяжело стучало в груди из-за близкого жара; моя голова, несмотря на груз наполнявших ее мерзостей, была необычайно легкой.
И тут послышалось:
— Джакабок!
Я в достаточной мере контролировал себя, чтобы узнать собственное имя и окликнувший меня голос. Я неохотно оторвался от зрелища кремации и сквозь искаженный маревом воздух увидел папашу Гатмусса. По движениям двух его хвостов было ясно, что он не в лучшем настроении: хвосты торчали вверх над папашиным задом, то сплетаясь друг с другом, то расплетаясь с дикой скоростью и такой силой, будто один хвост хотел задушить другой.
Кстати, я унаследовал этот редкий двойной хвост, один из двух папашиных даров. Но я не чувствовал за это никакой благодарности, пока Гатмусс шел тяжелой поступью к костру и кричал на мою мать: какого рожна она разожгла костер и что это ей вздумалось сжигать? Я не разобрал ее ответа. Кровь у меня в голове гудела так громко, что я слышал только этот гул. Ссоры и стычки родителей иногда длились часами, поэтому я снова уставился на пламя. Благодаря огромной кипе пожираемой огнем бумаги костер все еще полыхал с неукротимой яростью.
Я уже дышал неглубоко и часто, а мое сердце безумно билось. Сознание трепетало, как огонек свечи на ветру, и в любой момент могло отключиться. Я понимал это, и мне было наплевать. Я чувствовал себя до странности отчужденно, будто со мной ничего не происходило.
Потом, внезапно, мои ноги подкосились, и я упал в обморок —
лицом…
прямо…
в огонь.
* * *
Вот так. Вы удовлетворены? Я не рассказывал этого никому сотни лет с тех пор, как все случилось. Но сейчас рассказал вам, чтобы вы знали, как я отношусь к книгам. Почему мне нужно видеть, как их сжигают.
Ведь это не сложно понять? Я был маленьким демоном, когда мои записки спалили на моих глазах. Со мной поступили несправедливо. Почему у меня отняли возможность рассказать свою историю, а сотням других, куда менее интересных рассказчиков позволяют издавать книги? Я знаю, как живут писатели. Они просыпаются, когда захотят, и топают к столу, даже не заходя в ванную, усаживаются, закуривают сигару, пьют сладкий чай и пишут всякую чушь, что приходит им в голову. Вот это жизнь! И я бы мог так жить, если бы мое первое творение не сожгли. А ведь во мне живут великие шедевры. Шедевры, от которых зарыдает небо и раскается ад. Но разве мне позволили написать их, излить душу на страницы? Нет.
Вместо этого меня заточили в переплет этой убогой книжонки, и я прошу сочувствующую душу об одном:
— Сожгите эту книгу.
* * *
Нет, нет, все еще нет.
Почему вы медлите? Думаете, что найдете здесь возбуждающие подробности о демонации? Что-нибудь извращенное и непристойное, как в других книгах о подземном мире (или об аде, если хотите)? Большая часть таких писаний — выдумка. Ведь вы и сами это знаете. Всего лишь старые сплетни, замешанные на глупых байках алчным писакой, не знающим о демонации ничего.
Вам любопытно, откуда я знаю, что нынче выдается за правду? Не все старые друзья покинули меня. Мы переговариваемся мысленно, когда позволяют обстоятельства. Как узник в одиночном заключении, я умудряюсь получать весточки из большого мира. Не много, но хватает, чтобы не сойти с ума.
Видите ли, я настоящий. В отличие от самозванцев, выдающих себя за воплощение тьмы, я и есть та самая тьма. Если бы у меня появился шанс сбежать из бумажного плена, я бы причинил людям столько страданий и пролил такие моря крови, что само имя Джакабока Ботча стало бы олицетворением зла.
Я был… нет, я был и есть заклятый враг человечества. И я воспринимаю эту вражду всерьез. Когда я жил на воле, я делал все возможное, чтобы причинить боль моей жертве, независимо от ее невинности или греховности. Чего я только не делал! Понадобилась бы еще одна книга, чтобы перечислить все зверства, изобретенные мной, — и я ими горжусь. Я осквернял святые места и учинял насилие над их обитателями. Бедные обманутые фанатики думали, что образ страдающего Спасителя может отвратить меня. Они размахивали распятием и приказывали мне убираться.
Конечно, это ни разу не сработало. И как же они кричали, как просили пощады, когда я привлекал их к своей груди! Стоит ли упоминать, что я — создание на редкость уродливое. Спереди от макушки до бесценных органов между ног все мое тело жутко обожжено костром, в который я упал (папаша Гатмусс оставил меня там пожариться минутку-другую, пока угощал тумаками мою мать), — обожжено настолько, что ящероподобное туловище превратилось в месиво ярких келоидных рубцов. Мое лицо было — и остается — хаотичным нагромождением красных упругих волдырей из мяса, поджаренного в собственном соку. Глазницы — две пустые дыры, ни бровей, ни ресниц, та же история с носом. Из глаз и ноздрей сочится серо-зеленая слизь, по щекам днем и ночью стекают ручейки мерзкой жижи.
Что касается рта — из всех черт моего лица только его я хотел бы вернуть таким, каким он был до костра. От мамы я унаследовал пухлые губы, и те поцелуи, что выпали на мою долю — хотя бы с собственной рукой или отбившейся от стада свиньей, — убедили меня, что с такими губами мне должно повезти. Этими губами я мог бы целовать и лгать. Я превратил бы любого в своего добровольного раба: стоило мне побеседовать с ним, а потом поцеловать, и я стал бы его господином. Все без исключения таяли бы от желания подчиниться и с удовольствием вершили самые унизительные деяния за один мой долгий нежный поцелуй.