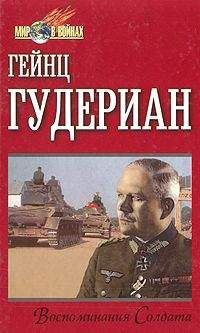— Теперь ты видишь, что ошибался? — хихикала круглая рожа.
Я ничего не ответил, и несколько минут царило молчание.
Потом опять начался разговор:
— Ведь у тебя есть хорошенький маленький револьвер. Вынь его, мне очень хотелось бы увидеть во сне, что ты застрелился. Это, должно быть, очень забавно.
— Этого мне даже и в голову не придет! — крикнул я, взял револьвер и швырнул его в противоположный угол.
— Подумай об этом хорошенько! — сказала рожа, повернулась и принесла мне револьвер. — Что за хорошенькое маленькое оружие! — сказала она, снова кладя его рядом со мной на постель.
— Застрелись сама, если хочешь! — закричал я в ярости, бросился ничком на постель и заткнул себе уши.
Но это ни к чему не привело: я слышал и понимал каждое слово, как и раньше. Всю ночь рожа не отходила от меня, смеялась и гримасничала и упрашивала покончить с собой.
Я проснулся как раз в ту минуту, когда сторож открывал дверь, чтобы внести мне завтрак. Вне себя вскочил я с постели и дал ему револьвер:
— Скорее, скорее уберите это! Пусть не будет так, как этого хочет рожа, которую я видел во сне.
На следующую ночь рожа снова появилась передо мной.
— Как жаль, — сказала она, — что ты отдал хорошенький маленький револьвер. Но ведь ты можешь повеситься на твоих подтяжках: это тоже очень забавно.
Утром я с величайшим трудом разорвал мои подтяжки на мелкие клочки.
И вот я пошел в тюрьму. Принять вызов, который мне бросила людская глупость; разыгрывать из себя героя и мученика — такого честолюбия у Оскара Уайльда не было. Он жил, как жил раньше, или он не жил совсем. Но тут для него открылась новая борьба, имевшая для него новую прелесть, и такую борьбу едва ли переносил когда-нибудь другой смертный: я хотел жить, чтобы доказать роже, которую я видел во сне, что я живу; мое бытие должно было доказать небытие другого существа. У карфагенян было одно наказание: ломание костей. Приговоренного привязывали к столбу, после этого палач ломал ему первый сустав мизинца правой руки и уходил. Ровно через час он возвращался, чтобы сломать первый сустав соответствующего пальца на левой ноге. И снова через час он ломал первый сустав мизинца левой руки, а через час первый сустав соответствующего пальца правой ноги. Перед самыми глазами приговоренного стояли песочные чары, таким образом он сам мог проверять время. Когда падала вниз последняя песчинка, то он знал: снова прошел час, теперь придет палач и сломает большой палец на руке. А потом большой палец на ноге — потом средний палец — безымянный — один сустав за другим, очень осторожно, чтобы не сломать чего-нибудь лишнего. Потом дойдет очередь до носовой кости и до руки, а затем до бедренной кости, так ломали одну кость за другой — очень аккуратно, понимаете ли! Эта процедура была, конечно, несколько сложная, она продолжалась дня два, пока наконец палач не переламывал спинного хребта.
В настоящее время эта пытка производится иначе, гораздо лучше. На это употребляют больше времени, а в этом-то и заключается искусство при выполнении пыток. Вот видите ли, все мои суставы целы, и все-таки все во мне надломлено, тело и душа. В «Reading Goal» употребили два года на то, чтобы надломить Уайльда; вы понимаете, в чем заключается их искусство: С. З. З. — хорошая реклама для них.
Я говорю это, чтобы доказать вам, что борьба моя была не из легких: у рожи было, действительно, много шансов на победу. Она являлась ко мне каждую ночь, а иногда даже и днем, ей так хотелось увидеть во сне, что я покончил с собой, и она предлагала мне все новые и новые средства.
С год тому назад ее посещения начали становиться реже.
— Ты мне надоел, — сказала она мне однажды ночью, — ты недостоин больше того, чтобы играть главную роль в моих снах. На свете есть много гораздо более интересного. Мне кажется, что мало-помалу я тебя забуду.
Вот видите ли, мне тоже кажется, что мало-помалу она забывает меня. Время от времени она еще видит меня во сне, но я чувствую, как моя жизнь, эта жизнь во сне, медленно иссякает. Я не болен, но во мне истощается жизненная сила; эта бестия не хочет больше видеть меня во сне. Скоро она совсем забудет меня, тогда я угасну.
Оскар Уайльд вскочил. Он крепко ухватился за выступ скалы, его колени дрожали, его усталые глаза широко раскрылись и, казалось, готовы были выйти из орбит.
— Вон! Вон она! — крикнул он.
— Где?
— Вон! Там, внизу!
Он указывал мне пальцем в одну точку. Зеленоватая вода обливала там круглый выступ скалы и медленно скатывалась с него. И действительно: в наступивших сумерках казалось, что этот камень — лицо, что это насмешливо-добродушная рожа, которая широко улыбается.
— Это скала!
— Да, конечно, это скала! Неужели вы думаете, что я этого не вижу? Но это все-таки та же рожа: она перевоплощается в какой угодно предмет. Посмотрите, как она ухмыляется!
Она, действительно, смеялась, этого нельзя было отрицать. И я должен был согласиться: выступ скалы со скатывающейся с нее водой очень походил на то существо, которое только что описал Оскар Уайльд.
— Верьте мне, — сказал Оскар Уайльд, когда нас снова перевозили рыбаки на берег, — верьте мне, что это не поддается никакому сомнению. Бросьте ваши возвышенные мысли о человечестве: человеческая жизнь и вся история человечества не что иное, как сон, который грезится какому-то нелепому существу!
Остров Капри. Май 1903
Пер. В. Рогова. — (Прим. ред.).