— В тот момент я определённо решил, что рехнулся; я подумал, что, возможно, мы уже идём ко дну, и это предсмертные видения, наполнившие мой мозг в расщелине между жизнью и смертью. Может быть, всё кончено, и мы плавно опускаемся в безмолвии…
— Она появилась, как будто вышла из двери в море. Она встала на одну из этих замороженных волн, так же близко ко мне, как я к тебе.
— Ты назвал ее богиней, — спросил я. — Она была красивой?
Он глянул на меня с прохладным весельем. — Скажи мне, — сказал он. — Считаешь ли ты наши острова красивыми? — И он указал широким, красноречивым жестом на летнее море, с его урожаем изумительно живописных и бесплодных нагромождений камней.
— Да, конечно, — ответил я.
— В таком случае она была прекрасна. — Он наклонился ко мне и понизил голос до хриплого шепота. — Она посмотрела на меня с глазами настолько сумасшедшими, что я отказался от мыслей о собственном безумии, дававших мне повод отвлечься от позора. Вновь вернулся жёгший меня до того стыд. И тогда она заговорила голосом потерявшегося ребёнка. Знаешь, что она сказала?
Я покачал головой.
— Она спросила: «Где Александр Великий? Где он?» Она произнесла это со смущением старого человека, который забыл собственное имя, или ребёнка, который еще не узнал его.
— И что же ты?
Его плечи немного поникли. — Я обнаружил, что мое отчаяние не так уж глубоко, как оно представлялось до того… так что я ответил как человек, который боится умереть. Я сказал: «Александр Великий жив и правит».
Воцарилось молчание. За молом гавани солнце погружалось в волны.
Наконец я спросил: — А если бы ты не ответил так?
— Тогда она подарила бы мне быструю, безболезненную смерть, которой, как я полагал, жаждал.
— А потом? Что случилось дальше?
Его лицо показалось странно беззащитным для столь жёсткого и скрытного человека. — Она улыбнулась мне сладко, как младенец. Затем ушла, подобно погашенной свече. Море восстановило свою силу, но только на несколько минут. Мистраль ослабел, и я все ещё жив… чтобы рассказать тебе эту историю.
Я знаю, что завидовал Деметриосу и его памяти. Для меня было совершенно ясно, что он верил в свою историю; что она имела для него более глубокий смысл, нежели я мог только себе вообразить. Я завидую всем, кто не живет синтетической жизнью подобно мне, всегда удаленному от биения момента благодаря своей ущербной позиции писателя. Которого всегда занимает то, как лучше описать, что он видит, чувствует, делает — и пренебрегает видеть, чувствовать, делать.
Мой роман с морем не удался по другой причине. Совсем юным я читал о море с тем же мечтательным пылом, с каким другие дети увлекаются историями про ковбоев и индейцев, полицейских и грабителей. Будучи молодым человеком, я продолжил эту «любовь по переписке». Город, в котором я жил, находился далеко от побережья, и не мог разрушить мои иллюзии грубой действительностью. Я прочитал все знаменитые хроники мореплаваний: Восс, Слокум, Гербальт, Майлс и Берил Смитон, Эрик и Сюзан Хискок, Робинсон, Чичестер, Бартон, Оллкард, Вилье… Имена чарующе скатываются с языка, и все они означают свободу, приключения, удивительные страны и народы, веру в себя, плеск волны под носом корабля, пряный запах далёких островов… Всё хорошие вещи, конечно. Я не отрицаю этого даже сейчас.
Во всяком случае, этой ночью, пока усиливающийся шторм швыряет мой корабль, а я размышляю об изумительном эксцентрике Бернаре Муатесье. Море религия Муатесье, его книги полны взвинченный духовной страсти к нему. Хотя они гораздо читабельнее, чем книги других французских мореплавателей, которые по большей части страдают истеричным галльским шовинизмом, делающим из них какающие триколором карикатуры на мужчин.
Тем не менее, теперь преданность Муатесье морской стихии кажется мне совершенно иррациональной. Он стартовал в международной регате «Золотой глобус» — первой одиночной гонке вокруг света. Его кеч «Джошуа» лидировал, он был далеко впереди остальных, когда почти у самого финиша Муатесье решил, что ему недостаточно этих месяцев одиночества в море[10]. Он вышел из гонки, вновь обогнул мыс Доброй Надежды, и поплыл, не бросая якоря, через Индийский и Тихий океаны, пока не достиг Таити.
В довершении своих чудачеств, он написал книгу о себе и пожертвовал гонорар Ватикану. На нужды экологии[11].
Вспоминая сейчас восторженные описания Муатесье, его жизнерадостные призывы бури, не могу решить, стоит ли смеяться или плакать.
Когда я продал свою первую книгу, мой издатель, повинный в выдаче желаемого за действительное, выплатил мне неприлично оптимистичный аванс.
На эти деньги я купил в Аннаполисе свою первую яхту. До этого мне доводилось лишь прогуливаться на лодках приятелей по озеру. Легкий бриз, спокойная вода.
До сих пор помню, насколько был шокирован, когда вышел в первый раз под парусом в Атлантику. Как испугался.
Легкий ветерок, дувший, когда мы покинули пристань, вскоре окреп, и к полудню его скорость стала под двадцать узлов при высоте волн шесть футов. Ничего особенного, на самом деле, просто свежий ветер. В эту ночку он сильнее раза в два. Но я понял тогда, с уверенностью, никогда меня не покидавшей, как злобно и бездумно море, насколько оно жаждет жизни ничтожных воздуходышащих, рискнувших выйти в него.
Когда мы вернулись, я привязал лодку к причалу, и не подходил к ней больше в течение шести недель. К этому времени я убедил себя, что моя первая реакция просто какое-то помрачение ума. Что скоро я преодолею свой испуг, и начну видеть ту же красоту, чувствовать ту же радость, о которых писали мои герои.
Но этого никогда не произошло.
Почему я продолжаю пытаться? Потому что… Потому что хождение под парусом оказалось единственным настоящим делом, которым я когда-либо занимался. Неважно, насколько меня скрючило от ужаса (прямо сейчас я чувствую себя больным от страха и узо), но я все-таки могу назвать себя моряком. Авантюристом, путешественником, бросающим вызов непреодолимой силе. Иначе я просто несостоявшийся писатель. Старый, пьяный, в одиночку.
Чтобы я сделал, если бы нашелся какой-нибудь олух, купивший «Олимпию»? Когда я воображаю такую картину, то вижу себя ещё старше и толще, еще более обветшавшим, прозябающим в каком-то захолустном недоколледже, опирающимся на свои скудные лавры, обучающим прыщавых подростков написанию безмозглых эссе, трахающим случайных привлекательных студенток…
В последнем пункте, конечно, я могу желать слишком многого. Вряд ли найдутся настолько глупые студентки, даже в колледже с сокращенной программой, чтобы их ослепили моя крошечная слава и изношенный шарм.
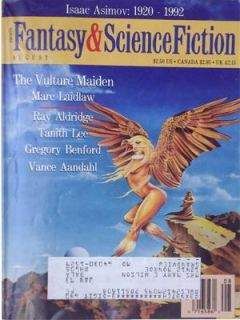
![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)


