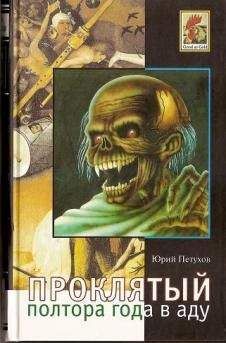А она все выла и выла.
Я полз в другую сторону, выплевывая гнилую, пропитанную трупной жижей землю изо рта. Я не хотел ни слышать, ни видеть ничего. И я бы ни за какие коврижки не обернулся. Но тот самый пьяный болван, что торчал за оградой, вдруг заблеял таким идиотским блеяньем, что загривок мой передернуло от омерзения, заскребло на сердце. Лязг поваленной ограды и вовсе взбесил меня. Я вскочил на ноги… но тут же упал — какие-то трухлявые доски расползлись под ступней, не выдержали моего призрачного веса.
— У-у-у-бла-а-а-я-я!!! — ревел по-звериному алкаш. И дуром пер на бабищу. Пер, расставив свои огромные волосатые лапы, падал в пыль и грязь, тут же вздымаясь, сопя, роняя слюну в мертвенном свете луны. Это был какой-то зверюга, а не человек.
А мертвая бабища стояла к нему спиной и даже не замечала алкаша, будто и не слышала эту паскудину. Она выла все громче, скрежеща зубами, срываясь на злобный плач. Время словно остановилось. Я привалился спиной к здоровенному перекошенному кресту. Но он осыпался ржавой вонючей трухой, запорошил мои больные глаза.
С ревом и утробным гоготом алкаш подступил к мертвечихе, сбил ее наземь одним коротким ударом, потом ухватил за волосы… те остались в его черной ручище, мертвечиха только дернулась и застонала. Но это все не обескуражило зверюгу. Он снова утробно заржал, ухватил ее как-то поперек, подкинул над могилой, задрал саван, прижал мертвечиху к себе задом. И начал судорожно рвать ремень на своих брюках. Только тогда на меня снизошло, все понял, догадался — да этот ублюдок живой, паскудина хренова собирается насиловать труп. Ну-у-у, скотина!!! Он был настолько пьян, что ни черта не соображал, он крутил эту дохлятину словно живую, горячую бабу, лапал ее, рвал в клочья саван… и ни хрена не соображал. А эта тварь хохотала мерзко, и не отбивалась, не пыталась ни убежать, ни выскользнуть, она только изгибалась, запрокидывала лысый желтый череп, скалилась… и хохотала. Нет, мужик был явно не в себе. Меня так и подмывало наброситься на него, исколошматить, вышвырнуть вон с этого проклятого, поганого кладбища. Но силы оставили меня, только глаза все видели, уши все слышали, а рука подняться не могла.
— Ну, давай, давай, еще… — сипло молила она. И каждое слово было омерзительно и дико.
— У-у-убля-я-яа-аааа!!! — ревел ублюдок.
Штаны с него давно слетели. Лунный свет мертвил голый волосатый зад и кривые толстенные ноги-лапы. Насильник все время падал, потом снова поднимался, подхватывал под чресла мертвую жертву и продолжал, продолжал, толкал ее вперед, заваливаясь, сбивая обломок креста. А мертвечиха стонала и хохотала. И тогда усек я: это она его заманивала и околдовала, она специально выла, завлекала… Нет! Не может быть!
— У, падлы! — взревел я.
Силы вновь вернулись в мое истерзанное тело. Я вскочил на ноги, бросился к ним.
Жутко осклабилась бабища, почуяв меня, уставилась черными пустыми глазницами. А алкаш даже ухом не повел, он все тряс своим огромным брюхом, качал ее, гоготал и сопел.
— Не тро-о-ожь! — вызверилась она.
Но было поздно. Мощнейшим ударом я вышиб челюсть ублюдку, сбил его с ног, набросился на него, вырывая мясо клочьями, дорываясь до горла. Но не успел, опоздал самую малость.
Страшная сила подхватила меня сзади, отбросила на три метра. Это была она, слепая и злобная, мертвая и исполински сильная, сильная силой самого ада.
— Сука-а! — заорал я.
И получил такой удар прямо в перешибленный нос, что взвыл. Почти следом она вонзила два своих костлявых пальца в мои глаза. Я завизжал резанным кроликом, аж самому тошно стало. Кровь заливала лицо. Но я чувствовал, как глаза вновь прорастают — дьявольская, неумерщвляемая плоть, сатанинская живучесть! А ведь я так хотел, чтобы меня убили совсем, навсегда, чтобы раз и навсегда! Нет! Не выходило! Не получалось из этого ничего: сколько меня терзали, расчленяли, разрывали, сжирали… и все вновь восстанавливалось. Силы ада! Я вскочил на ноги. Но тут же полетел обратно. Теперь этот живой ублюдок бил меня, бил с такой силой и ловкостью, будто не был в дупелину пьян, будто был не то что молотобойцем, а самим паровым молотом! А эта стерва визгливо и сладострастно хохотала, ей весело было. Последним ударом он снес мне половину башки. И сразу успокоился, подумал, небось, что прикончил гада.
— Уу-у-ублю-я-я-аааа! — завел он прежнее и вновь навалился на мертвечиху. Облапил ее, присосался слюнявыми губищами к разлагающейся трупной коже. Он так ничего и не понял. О-о, как счастливы безумные и безумно пьяные! Я люто и злобно позавидовал негодяю. А перед глазами встала одна жертва моя, туристочка из Италии, черненькая и грудастая. Еще в семьдесят девятом на Ладоге я ее прихватил, всю ночь терзал и голубил, то рвал смертным рваньем, то ласкал, надежду давал, измывался. А потом еще живую в дупло старого сухого дуба забил, керосином облил да сжег. Но промашка вышла два местных парня видели концовочку нашу. И, сволочи проклятые, вместо того, чтоб как подобает добропорядочным советским гражданам, бежать в ментовку и стучать на меня, закладывать, они подхватили какие-то дубины и так отдубасили, что духу лишили… Очнулся тогда ночью, во мраке, весь в веревках, в болоте, издыхающий, но рвущийся куда-то. Ничего не помнил, это меня мой звериный дух вызволил, в беспамятстве, связанный, а выполз из болота, просчитались ребятишки, думали, утопну я, сдохну как гнида поганая, а я выполз как гнида. Гниды — они живучие. Двенадцать дней лежал не жрамши, только жижу болотную сосал да комары меня ели. Оклемался. Я эту суку итальянскую вовеки веков не забуду! Паскудина! Гадина! Натерпелся я из-за нее. И только вспомнилось… это мне все за грехи мои. Не искупить их никогда! А башка уже зарастает, опять все вижу как на ладони — бесятся они, трутся похотливо, визжат… Ну, думаю, нет.
— Щас я вам, гады!
И с куском гранитной плиты на них… Только опять не добежал. Сам столбом встал, аж мурашки по коже и кол словно в спину. Это я его глаза вдруг увидал. Еще недавно совсем мутные они были, дикие, пьянющие… а тут! Прозрел, падла! Прочухался! Увидал сам себя на разлагающемся, вонючем, но живом, скалющем зубища трупе, услыхал мертвецкий хохот и визг. И такой дикий, леденящий душу страх в глазищах запылал, что и белков не осталось. Из разинутого рта ни звука, свело судорогой… ну, малый, в чужом пиру похмелье тебе! Хреновые штуки!
— Милый, давай, давай… — пристанывала она, ни хрена не видя, извиваясь голым зеленым телом, подставляя кости и изъеденную червями плоть. А он соляным столпом застыл. Ужас!!!
И тогда понял я, что мне бежать надо, не то хуже будет, совсем хреново будет. Попятился, прижал руки к лицу.