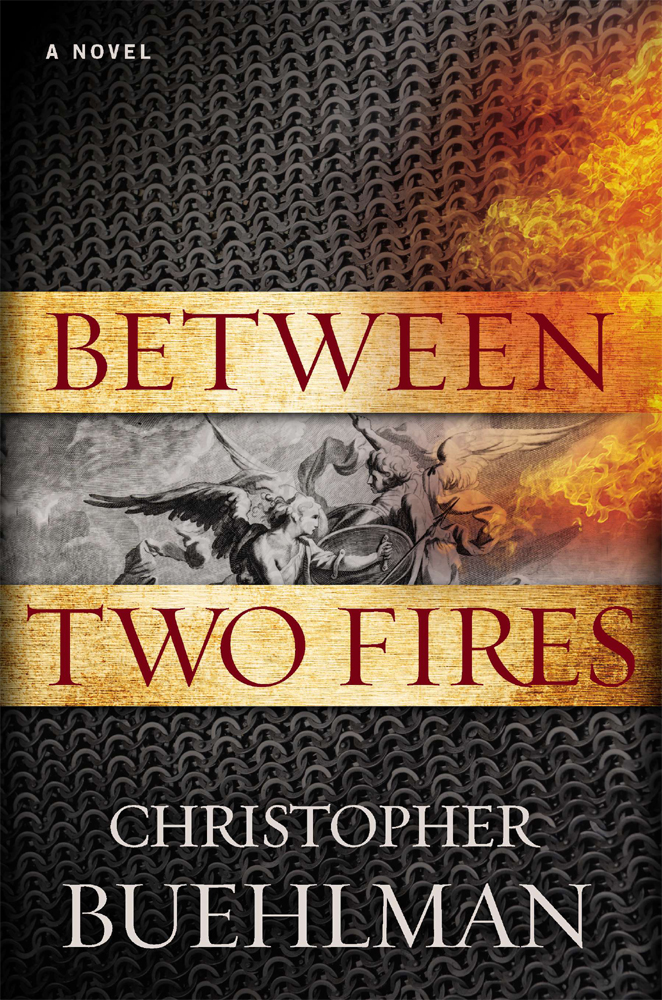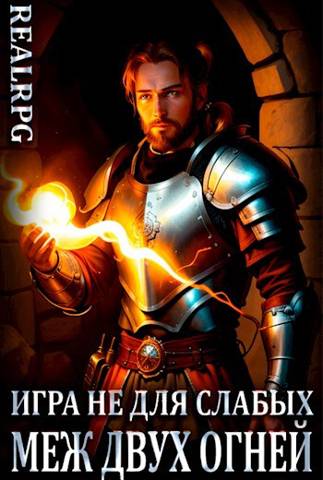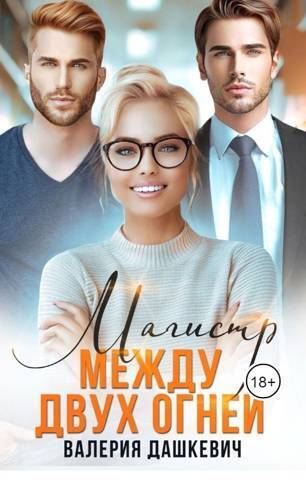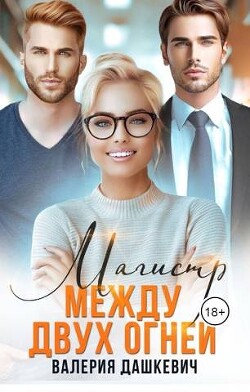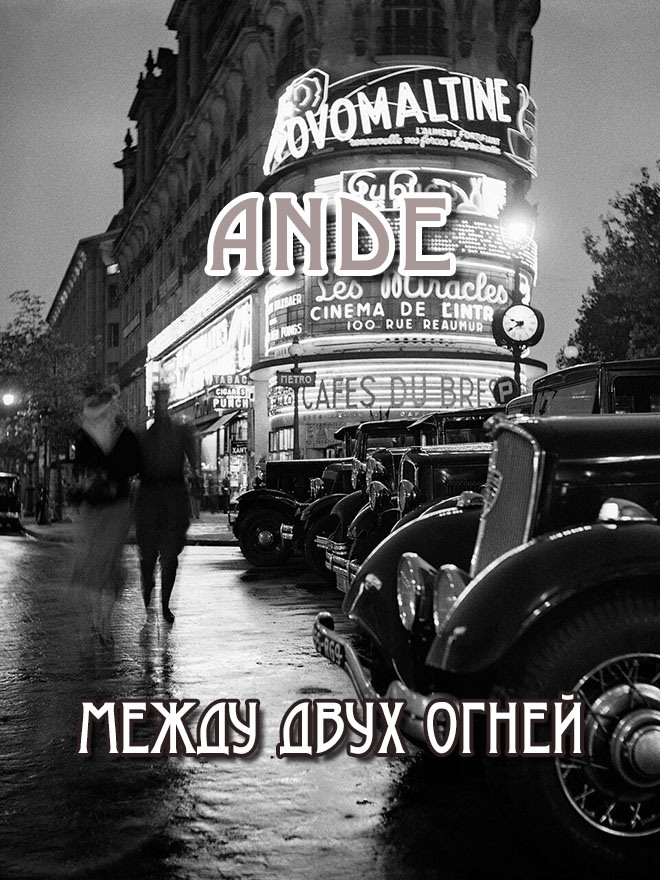Томаса.
Десять минут, которые потребовались, чтобы вправить ногу, показались ему сущим чистилищем после ада, когда хирург ковырялся маленькими плоскогубцами в щеке, в поисках расшатавшейся кости, и протыкал язык изогнутой иглой.
— Теперь вы не будете таким красивым, но, возможно, останетесь в живых, чтобы поблагодарить Пресвятую Деву, если она вас спасет. Боль — хороший знак. Я зайду снова завтра вечером. Сегодня вечером смочите кожу вокруг ран вином, но до вторника ничего не есть, а потом только бульон и сырые яйца. Богу было так жаль, что он выгнал человека из райского сада, что он дал нам курицу, которая дала нам яйцо. Я бы не удивился, узнав, что кровь ангелов — это яичный белок. Да хранит вас Господь, сэр рыцарь.
Оруженосец оставался с Томасом две недели, пока рана от стрелы играла с его жизнью — сначала покраснела по краям, затем очистилась, — а затем медленно, очень медленно, начала заживать. Когда опасность миновала — хотя Томас все еще был недостаточно здоров, чтобы путешествовать, — он отправил своего оруженосца домой, чтобы сообщить хозяйке поместья, что он жив. Сенешаль, который правил поместьем в отсутствии сэра Томаса, остановил Андре у ворот замка и рассказал ему, что произошло.
Оруженосец быстро развернулся и во весь опор поскакал в Амьен.
Андре стоял в маленькой комнате, держа в руках шляпу и откинув капюшон. Он подбирал слова и произносил их медленно, останавливаясь перед самыми трудными.
— Сир… Ваша крепость и земли Арпентеля... переходят в собственность графа д'Эвре, графа Наваррского и Нормандского. Ваш сенешаль выступил против него и приготовился к осаде, но ваша жена, опасаясь жестокости графа, если он прорвется за стены, договорилась с д'Эвре и впустила его в вашу крепость. И, кажется, после очень недолгой борьбы... в свою постель. Однако граф объявил вашего сына владельцем поместья и тот вступит в права наследования, когда достигнет совершеннолетия. Д'Эвре в это время будет регентом и протектором, и ваша рента будет поступать к нему, оставляя вашей супруге достаточно для ведения скромного хозяйства.
Томас покачал забинтованной головой и произнес слова, которые прозвучали как «король».
— Король сейчас слаб. Лорды Нормандии строят козни против него и вступают в переговоры с Англией. Король Филипп отдал земли нашего павшего лорда д'Эвре, чтобы тот не поднял открытого восстания. А теперь граф захватил ваши земли, которые граничат с Живрасом. Потому что он сейчас в силе. Из-за того, что вы были верны своему сеньору, а тот был верен побежденному королю, вас... отодвинули в сторону.
Томас покачал измученной головой, на глазах у него выступили слезы.
— Далее, — сказал оруженосец, — вас отлучили от церкви. Сам епископ Лана отдал такое распоряжение, несмотря на протесты вашего священника. Они заочно снимут с вас шпоры, опорожнят потир и снимут крест; если вы когда-нибудь вернетесь и попытаетесь потребовать свою землю, священник должен будет лишить людей возможности совершать таинства.
Томас издал звук, который мог означать «Когда?»
— Церемония завтра.
И вот Томас исцелился. Когда у него закончились деньги, он отправился на запад, в Нормандию, и продал свою душу Годфруа, постоянно высматривая геральдический герб человека, который его уничтожил, Кретьена, графа д'Эвре: золотое испанское колесо на красном поле, обрамленное лилиями. Томас согласился остаться с разбойниками до тех пор, пока они будут оставаться в Верхней Нормандии; Годфруа согласился, что они будут часто посещать владения графа. Томас поклялся, что этот жадный лорд, владеющий землями в Испании, Нормандии и Пикардии, который положил свои свинячьи глазки даже на корону Франции, умрет в грязи от руки разбойника.
Он поклялся в этом, плюнул на крест и сбросил его с себя.
Поскольку Бог допустил его отлучение от церкви, крест это заслужил.
Томас никогда не считал себя человеком, способным участвовать в воровстве и убийствах, а также допускать изнасилования, но, во имя мести, он стал именно таким.
На какое-то время.
ОДИННАДЦАТЬ
О Рынке на Улице Мон-Фетар35
— Что стало с твоим оруженосцем? — спросил священник.
— Не имею ни малейшего гребаного понятия. Я отослал его прочь, а не взял с собой в ад, но он, похоже, нашел другой. Вероятно, женился на англичанке и повесил на ее сиськи кучу отпрысков.
Теперь глаза резчика по дереву были открыты. Томас перевел на него пристальный взгляд.
— Как много ты слышал?
— Больше, чем я скоро забуду.
Томас глубоко вдохнул, словно собираясь выругаться, но, рассказав свою историю, он смягчился. Он позволил священнику положить руку ему на плечо, затем опустил голову. Резчик по дереву тоже сел и положил руку на другое плечо Томаса.
У резчика по дереву, Жеана, почти не осталось еды, и ему пришлось пойти на рынок. Обычно он делал это сам, неся коромысло с двумя корзинами, закрыв лицо тряпкой и стараясь держаться как можно дальше от других; однако сегодня Дельфина настояла на том, чтобы пойти с ним. Это означало, что Томас тоже пойдет. Священник едва не умирал от тоски по вину, а дела в квартале обстояли так скверно, что Аннет не хотела оставаться одна. Мул тоже не хотел, но его не спросили.
Аннет подошла к сундуку, стоявшему в изножье ее кровати, и достала оттуда пару красивых желтых шерстяных чулок, которые когда-то принадлежали ее дочери, а также пару деревянных паттенов36, которые привязывали к подошвам ботинок, чтобы защитить их от грязи и всего худшего, что было на парижских улицах. Она подарила их Дельфине и расчесала ей волосы, напевая ту же нормандскую мелодию, которую девочка пела под их окном прошлой ночью. Она улыбалась больше, чем Жеан видел за несколько месяцев.
Когда они ушли, был полдень.
Впятером, держась поближе друг к другу, они прошагали целую милю по извилистым улицам; витрины магазинов были закрыты ставнями, несколько открытых окон на верхних этажах смотрели на них пустыми глазницами. Другие группы жались друг к другу, и никто не разговаривал. Мимо них проехала повозка, заставив их прижаться к зданиям, и кучер сказал: «Осторожно» так механически, словно разговаривал сам с собой. В сточных канавах и иногда на крышах бегали крысы, но в остальном все было так тихо, что отдаленный собачий лай звучал как музыка.
Однако, когда они приблизились, стало шумно.
Рынок на улице Мон-Фетар был одним из немногих мест, где все еще собирались люди, и, следовательно, был одним из самых опасных мест в столице. Многие участки, где когда-то стояли киоски, теперь пустовали, а те, что остались, отдалились от своих соседей, как зубы от старых десен.
Тем не менее рынок, даже такой урезанный, представлял собой богатое зрелище.
Желтые вьюрки порхали и щебетали в клетках; акробатка ходила задом наперед на руках с нарисованными глазами на попе