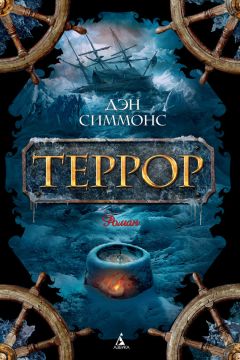– Не более чем через тридцать минут, сэр Джон. Может, раньше.
– И что спровоцировало нападение?
– Спровоцировало? – повторил Бест. Взгляд у него казался рассеянным. – Вы имеете в виду что-нибудь вроде стрельбы по белым медведям?
– Я имею в виду, при каких именно обстоятельствах произошло нападение, матрос Бест? – сказал сэр Джон.
Бест потер лоб, открыл рот, но прошло несколько долгих мгновений, прежде чем он заговорил:
– Да ничего не спровоцировало. Я разговаривал с Томми Хартнеллом – он лежал в палатке, с перевязанной головой, но снова в сознании, и ничего не помнил с момента начала первой грозы; мистер Дево присматривал за Морфином и Терьером, которые разжигали две спиртовки, чтобы приготовить медвежатину; доктор Гудсир снял с эскимоса парку и обследовал ужасную рану в груди старика; женщина стояла рядом, наблюдая за происходящим, но в тот момент я ее не видел, поскольку туман снова сгустился; а рядовой Пилкингтон стоял на часах с мушкетом, когда лейтенант Гор вдруг закричал: «Тише все! Тише!» – и мы все разом умолкли и застыли на месте. В тишине слышалось лишь шипение спиртовок да бульканье воды в больших котелках – мы собирались состряпать подобие рагу с медвежатиной, полагаю, – а потом лейтенант Гор достал пистолет, зарядил, взвел курок и отошел на несколько шагов от палатки, и…
Бест осекся. Взгляд у него приобрел отсутствующее выражение, рот был по-прежнему открыт, и на подбородке блестела слюна. Он явно видел перед собой не каюту сэра Джона, а некую картину, вставшую у него перед мысленным взором.
– Дальше, – велел сэр Джон.
Бест судорожно пошевелил губами, но не издал ни звука.
– Продолжайте, матрос, – сказал капитан Крозье более мягким голосом.
Бест повернул голову в сторону Крозье, но глаза у него по-прежнему смотрели куда-то вдаль.
– Потом… – начал Бест. – Потом… лед вдруг поднялся, капитан. Он просто поднялся и окружил лейтенанта Гора.
– О чем вы говорите? – раздраженно спросил сэр Джон после следующей минутной паузы. – Лед не может просто взять и подняться. Что вы видели?
Бест не повернул головы в сторону сэра Джона:
– Лед просто поднялся. Наподобие торосных гряд, которые вдруг вырастают в считаные секунды. Только это была не гряда… не лед… что-то просто поднялось и приняло… форму. Белая призрачная фигура. Помню, я увидел… когти. Лап не видел – во всяком случае, поначалу, – но вот когти видел. Огромные. И зубы. Я помню зубы.
– Медведь, – сказал сэр Джон. – Арктический белый медведь.
Бест лишь помотал головой:
– Громадного роста. Казалось, существо поднялось под лейтенантом Гором… вокруг лейтенанта Гора. Оно было… страшно высокое. В два с лишним раза выше лейтенанта Гора, а вы знаете, он был рослым мужчиной. Оно было по меньшей мере двенадцать футов ростом… думаю, даже выше… и огромное. Невероятно огромное. А потом лейтенант Гор вроде как исчез, когда существо… окружило его… и мы видели только голову и плечи лейтенанта да башмаки, а потом пистолет выстрелил – он не целился, думаю, пуля ушла в лед, – а в следующий миг мы все заорали дурными голосами, и Морфин бросился к дробовику, а рядовой Пилкингтон сорвался с места и побежал, на ходу целясь из мушкета, но он боялся стрелять, поскольку теперь чудовище и лейтенант слились в единое целое, а потом… мы услышали хруст и треск.
– Медведь рвал зубами лейтенанта? – спросил командор Фицджеймс.
Бест моргнул и посмотрел на румяного молодого человека:
– Рвал зубами? Нет, сэр. Существо не пускало в ход зубы. Я даже не видел его головы… как таковой. Просто два черных пятна, парящие на высоте двенадцати-тринадцати футов в воздухе… черные, но с красным отблеском, как глаза бегущего на вас волка, в которых отражается солнце. Хрустели и трещали кости грудной клетки, рук и ног лейтенанта Гора.
– Лейтенант Гор кричал? – спросил сэр Джон.
– Нет, сэр. Он не издал ни звука.
– Морфин и Пилкингтон выстрелили? – спросил Крозье.
– Нет, сэр.
– Почему?
Бест, странное дело, улыбнулся:
– Да стрелять было не во что, капитан. Секунду назад существо появилось – выросло над лейтенантом Гором и раздавило несчастного, как вы или я могли бы раздавить крысу в кулаке, – а в следующий миг оно исчезло.
– Что значит «исчезло»? – осведомился сэр Джон. – Неужели Морфин и рядовой морской пехоты не могли выстрелить в него, пока оно не отступило в туман?
– Отступило? – повторил Бест, еще шире улыбаясь своей неуместной, жуткой улыбкой. – Существо никуда не отступало. Оно просто ушло обратно в лед – как пропадает тень, когда солнце скрывается за облаками, – а когда мы добежали до лейтенанта Гора, он был уже мертв. Рот широко раскрыт. Даже крикнуть не успел. Тут туман рассеялся. Во льду не было никаких провалов. Никаких трещин. Ни даже маленьких отдушин, какие проделывают гренландские тюлени. Один только лейтенант Гор лежал там с переломанными костями – грудная клетка вдавлена, обе руки сломаны, из ушей, глаз и рта сочится кровь. Доктор Гудсир растолкал нас в стороны, но он ничего не мог сделать – Гор был мертв и уже начинал остывать, становясь холодным, как лед под ним.
Растрескавшиеся кровоточащие губы мужчины затряслись, но все еще оставались растянутыми в безумном, раздражающем оскале, а глаза приобрели еще более бессмысленное выражение.
– А что… – начал сэр Джон, но осекся, когда Чарльз Бест рухнул без чувств на палубный настил.
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы
Июнь 1847 г.
Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсира
4 июня 1847 г.
Когда мы со Стенли раздели раненого эскимоса донага, я вспомнил, что на груди он носит амулет из плоского гладкого камня размером меньше моего кулака, в форме белого медведя, – похоже, камень не подвергался обработке, но в природном своем состоянии имел очертания, в точности повторяющие линии длинной шеи, маленькой головы и сильных ног зверя, словно устремленного вперед. Я видел амулет, когда обследовал рану старика на льду, но тогда не обратил на него внимания.
Пуля, выпущенная из мушкета рядового Пилкингтона, вошла аборигену в грудь дюймом ниже амулета, пробила мышечную ткань между третьим и четвертым ребром, слегка изменила траекторию движения, зацепившись за верхнее из двух ребер, пробила левое легкое и застряла в позвоночнике, повредив многочисленные нервные волокна там.
Я никак не мог спасти раненого – еще в ходе первого обследования я понял, что любая попытка извлечь мушкетную пулю вызовет мгновенную смерть, а остановить внутреннее кровотечение из легкого невозможно, – но я сделал все от меня зависящее, приказав отнести эскимоса в ту часть лазарета, где мы с врачом Стенли устроили операционную. Вчера, после моего возвращения на корабль, мы со Стенли с полчаса ковырялись в ране самыми жестокими нашими инструментами и энергично резали, пока не установили местоположение пули в позвоночнике и не подтвердили наш прогноз о неминуемой смерти.
Но необычайно высокий, крепко сложенный седоволосый дикарь еще не согласился с нашим прогнозом. Он продолжал жить. Он продолжал с трудом дышать разорванным, кровоточащим легким, то и дело харкая кровью. Он продолжал пристально смотреть на нас своими неестественно светлыми – для эскимоса – глазами, следя за каждым нашим движением.
Прибыл доктор Макдональд с «Террора» и по предложению Стенли отвел для обследования второго эскимоса – девушку – в заднюю часть лазарета, отгороженную от нас одеялом, служащим занавеской. Полагаю, врач Стенли хотел не столько подвергнуть девушку осмотру, сколько убрать ее из лазарета на время, пока мы копаемся в ране ее отца или мужа… хотя как самого пациента, так и девушку, похоже, нисколько не пугали ни кровь, ни рана, при виде которой любая лондонская леди, да и немало начинающих врачей упали бы в обморок.
И к слову об обмороках. Мы со Стенли только-только закончили обследовать умирающего эскимоса, когда в лазарет вошел капитан сэр Джон Франклин с двумя матросами, волочившими под руки Чарльза Беста, который, сообщили они, лишился чувств в каюте сэра Джона. Мы велели матросам положить Беста на ближайшую койку, и мне хватило минутного поверхностного осмотра, чтобы перечислить причины наступившего обморока: крайнее изнеможение, в котором находились все участники разведывательного отряда лейтенанта Гора после восьми с лишним дней непрестанного напряжения сил; голод (последние двое суток на льду мы практически ничего не ели помимо сырой медвежатины); обезвоживание организма (мы не могли себе позволить тратить время, чтобы останавливаться и растапливать снег на спиртовках, и потому приняли неудачное решение жевать снег и лед, что ведет скорее к понижению, нежели к повышению содержания воды в организме); и причина, в высшей степени очевидная для меня, но, как ни странно, не принятая во внимание офицерами, допрашивавшими Беста, – бедняга стоял и докладывал капитанам, по-прежнему находясь в семи или восьми шерстяных фуфайках и свитерах, и лишь спустя какое-то время получил разрешение снять окровавленную шинель. После восьми дней на льду при средней температуре воздуха около ноля тепло на жилой палубе показалось мне чрезмерным, и я стащил с себя все свитера, кроме двух, едва только добрался до лазарета. Для Беста оно оказалось невыносимым.