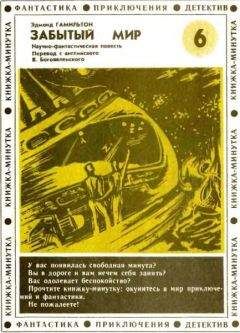Гордимся, что учимся именно здеее-е-есь…
Внезапно из ее горла вырвался странный придушенный звук — то ли полувскрик, то ли полувздох — и она, вцепившись в веревку двумя руками, дернула. В первое мгновение веревка пошла легко — Крис даже успела подумать, что Билли ее разыграл и никаких ведер па том конце нет — затем она натянулась — рывок, и веревка вырвалась обратно, оставив па ладони тонкий след ожога.
— Я… — начала было она.
Музыка в зале пошла в разнобой и стихла. Кто-то не обращая внимания, продолжал тянуть гимн, но спустя несколько секунд все замолчали. Наступила тишина, потом кто-то пронзительно взвизгнул, и снова ни звука.
Билли и Крис глядели в темноте друг на друга, оцепенев от содеянного — уже не планы, не слова, теперь все уже сделано. Воздух в легких, казалось, застыл, как стекло.
А затем из зала донесся нарастающий смех.
Часы показывали двадцать пять минут одиннадцатого, и ощущение тревоги становилось все сильнее и сильнее. Сью стояла у газовой плиты, выжидая, когда закипит молоко, чтобы высыпать туда растворимый кофе. Она уже дважды собиралась пойти к себе наверх и переодеться в ночную рубашку и дважды почему-то останавливалась и подходила к кухонному окну с видом на холм Брик'ярд и изгиб шоссе номер шесть, что вело к центру города.
Когда на крыше мэрии на Мэн-стрит вдруг панически завыла сирена, Сью даже не повернулась сразу к окну, а сначала выключила огонь под кастрюлькой, чтобы не убежало молоко.
Сирена на здании мэрии коротко взвизгивала каждый день ровно в двенадцать часов, но это все, если не считать сигналов сбора добровольной пожарной дружины, когда в сухой сезон, в августе и сентябре, загоралась вокруг города трава. Сигнал тревоги означал что-то серьезное, и в пустом доме завывание сирены казалось особенно жутким и угрожающим.
Сью медленно подошла к окну. Вой сирены то поднимался, то падал, снова и снова. Где-то вдали запели, как на свадьбе, автомобильные гудки. Из темного прямоугольника окна на нее взглянуло собственное отражение — огромные глаза, губы полураскрыты, — но спустя несколько секунд стекло запотело.
Неожиданно всплыло полузабытое воспоминание. Еще детьми, в начальной школе, они тренировались на случай воздушной тревоги. Учительница хлопала в ладоши и говорила Воет городская сирена, после чего полагалось лезть под стол и ждать, закрыв голову руками, когда она даст отбой или когда вражеские ракеты разнесут тебя на мелкие клочья. И теперь слова учительницы прозвучали у нее в голове ясно и чисто, будто все эти годы они как в гербарии (воет городская сирена) хранились в аккуратном полиэтиленовом пакетике.
Самой школы не было видно, но далеко внизу, слева, где располагалась очерченная уличными лампами школьная автостоянка, светилась искорка, словно Господь чиркнул там своим огнивом.
(там же баки с мазутом для котельной)
Искорка помигала, затем вспыхнула ярким оранжевым факелом. Теперь уже школу стало видно — школа горела.
Сью бросилась к шкафу за плащом или курткой, но тут весь дом вздрогнул от первого раскатистого взрыва, и в мамином буфете жалобно звякнули чашки.
Норма Уотсон. Мы пережили черный выпускной бал (опубликовано в августе 1980 в журнале Ридерс Дайджест под рубрикой Драма в реальной жизни):
…и все случилось так неожиданно, что никто на самом деле даже не понял, в чем дело. Мы все стояли, хлопали и пели школьный гимн. А затем — я как раз стояла у преподавательского стола и смотрела на сцену — в ярком свете софитов мелькнуло что-то блестящее, металлическое. Рядом со мной была Тина Блейк и Сандра Джейкс, и я думаю, они тоже это видели.
В воздухе вдруг расплескалось что-то красное. По венецианскому панно поползли густые потеки. Я почему-то сразу поняла, что это кровь, еще до того, как она пролилась на сцену. Стелла Хоран подумала сначала, что это краска, но у меня как будто предчувствие возникло — как в тот раз, когда моего брата сбил грузовик с сеном.
И Томми, и Кэрри облило с головы до ног, но ей досталось больше — будто ее взяли и макнули в ведро с краской. Она продолжала сидеть совершенно неподвижно. Группе, что стояла ближе к ним — Джози-энд-Мунглос, — тоже перепало: брызги летели во все стороны. У лидер-гитариста была белая гитара, и она вся оказалась в красных каплях.
Я сказала: Боже, это же кровь!, и тут Тина завизжала — очень громко, на весь зал.
Все наконец перестали петь, и наступила тишина. Я сама даже с места не могла сдвинуться, стояла словно прикованная. Взглянула вверх, а там — два ведра, крутятся над тронами на веревке и колотятся друг об друга. С них все еще капала кровь. И вдруг они упали вниз, а следом веревка. Одно ударило Томми по голове, и звук получился громкий, пустой — словно гонг. Кто— то засмеялся. Я не знаю, кто, но смеялись совсем не от того, что вышло весело или забавно, нет. Грубый, истерический, жуткий смех.
И в этот момент Кэрри открыла глаза. Вот тут-то все и расхохотались. Я тоже. Боже, это… это было просто дико.
В детстве у меня была диснеевская книжка Песня юга, и в ней сказка дядюшки Римуса про чумазейку. На картинке чумазейка сидела посреди дороги — один к одному негритенок: лицо черное— черное и огромные белые глаза. Так вот Кэрри открыла глаза, получилось то же самое: только глаза белые, а все остальное — густого красного цвета, да еще свет горел так ярко, что они казались просто стеклянными — ну прямо как этот комик, Эдди Кантор, когда он глаза вытаращит.
От этого-то все и засмеялись. Удержаться было невозможно. Тут либо дашь себе волю и расхохочешься, либо просто свихнешься, а над Кэрри привычно смеялись уже много лет. В тот вечер мы все чувствовали себя частью чего-то особенного, словно она на наших глазах воссоединилась со всем нормальным человечеством, за что лично я только благодарила Бога. И вдруг это. Этот кошмар.
Нам просто ничего не оставалось. Или смейся, или плачь — но кто за все эти годы хоть раз пожалел Кэрри?
Она, не шевелясь, глядела в зал, а смех становился все сильней, все громче. Люди чуть не падали на пол, держась за животы, и показывали на Кэрри пальцами. Только Томми на нее не смотрел. Он сидел в кресле, повалившись на бок, будто уснул. Однако сразу никто даже не понял, в чем дело: он и так был весь в крови.
А затем, в одно мгновение, лицо Кэрри словно… словно надломилось — не знаю, как еще это описать. Она закрыла лицо руками и встала. Ее качало, она споткнулась, и едва не упала — тут все засмеялись пуще прежнего. Потом Кэрри… ну в общем, спрыгнула со сцены — как будто большая красная лягушка нырнула в воду со своего листа лилии. Она снова чуть не свалилась, но удержалась-таки на ногах.