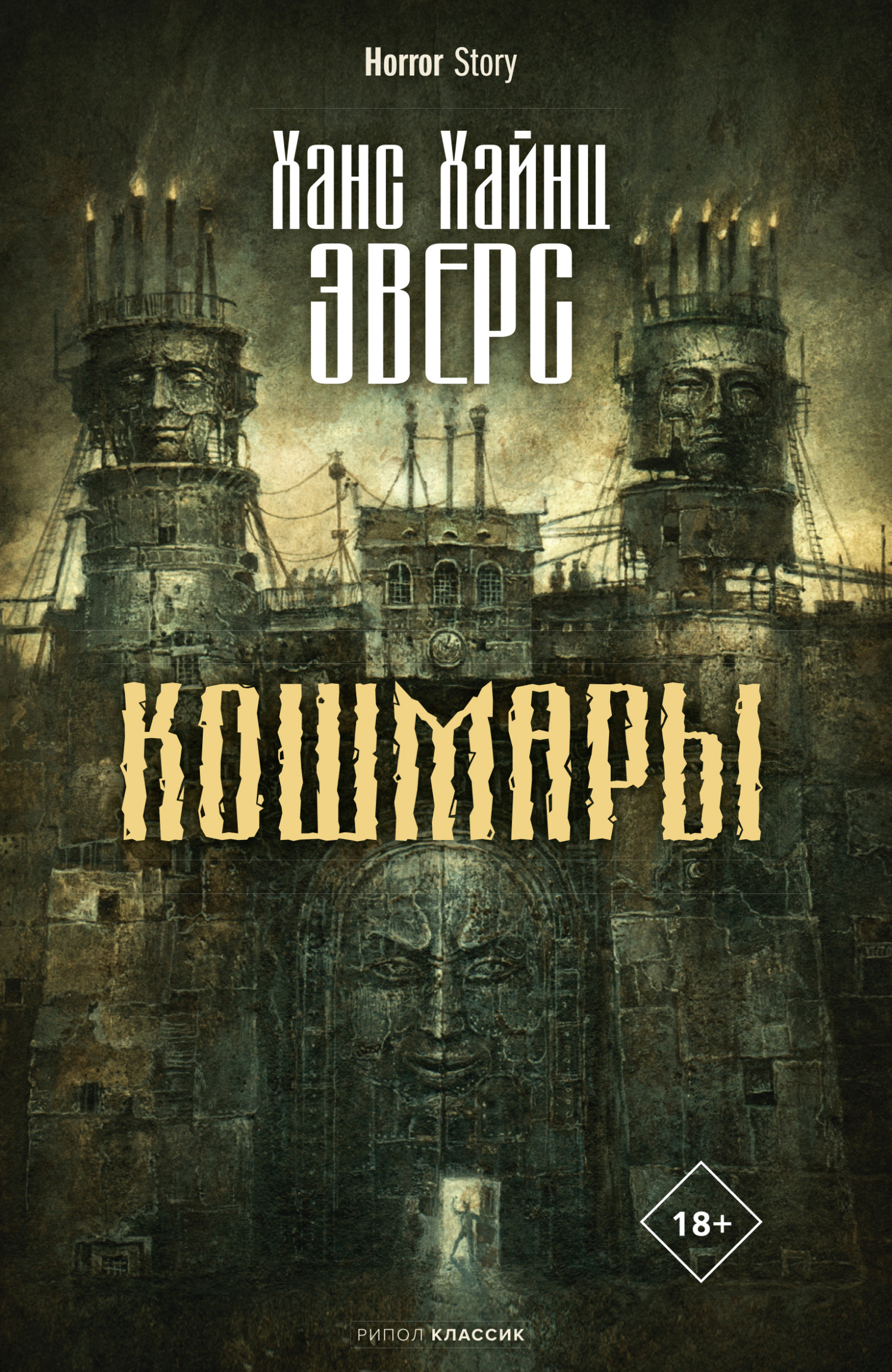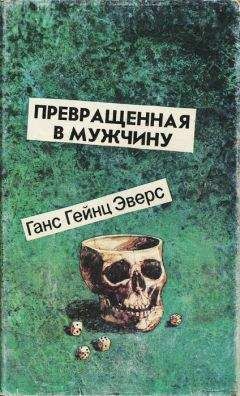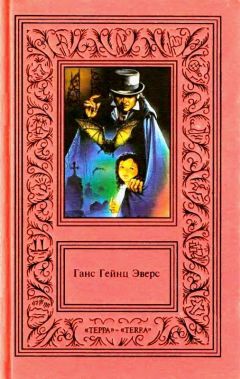и наркотиками и стрессы последних лет обернулись болезнью сердца и впоследствии привели к туберкулезу.
Эверс умер 12 июня 1943 года в своей берлинской квартире. В тот же день дом его детства будет разрушен бомбами союзных войск. Сохранившиеся свидетельства сообщают, что в последних словах писатель проклинал свое имя и сетовал, что «прожил жизнь осла». Его посмертная книга «Die Schönsten Hände der Welt» («Самые красивые руки в мире») была опубликована позже в том же году издательством «Zinnen-Verlag», но почти сразу была запрещена.
Послевоенная оценка наследия Эверса следовала довольно предсказуемым курсом – Германия поспешила откреститься от него, как и от всей своей недавней истории; для стран, говорящих на английском языке, он стал практически неизвестен, поскольку на язык По и Байрона было переведено лишь несколько из ста тринадцати его рассказов, составителям антологий было особо не из чего выбирать (хотя некоторые засветились в монументальном проекте Герберта ван Тала «Pan Books of Horror Stories»). Романы же оказались для издания труднодоступны и дороги. Судьба Эверса в России интересна – в начале двадцатого века его публиковали много и охотно в журнале «Огонек» и в виде полноценных авторских сборников (собственно, многие переводы тех времен не утратили и сейчас первоначального блеска, хотя попадались и неудачные); в 1933 году в газете «Литературный Ленинград» выходит статья Надежды Рыковой «Певец во стане коричневых рубашек», критикующая избранный автором идеологический курс, после чего по понятным причинам наступает долгое издательское затишье. При этом Эверса, как минимум, продолжали читать на языке оригинала – шутка ли, у самого Игоря Северянина в сборнике «Очаровательные разочарования» (1940) имеется прелестное стихотворение «Ганс Эверс», написанное по мотивам рассказа «Отступница», в то время еще не переведенного на русский:
Его гарем был кладбище, чей зев
Всех поглощал, отдавших небу душу.
В ночь часто под дичующую грушу
С лопатою прокрадывался Стеф.
Он вынимал покойницу, раздев,
Шепча: «Прости, я твой покой нарушу…»
И, на плечи взвалив мечту, как тушу,
В каморку нес. И было все – как блеф…
И не одна из юных миловидных,
Еще в напевах тлея панихидных,
Ему не отказала в связи с ним,
Почти обрадованно разделяя ложе.
И смерть была тогда на жизнь похожа:
Невинность, грех – все шло путем одним.
Краткий всплеск популярности – на волне читательской любви ко всему ужасному и мрачному – ждал Эверса в 1990-х; вот, к примеру, что пишет о «Паучихе» редактор фэнзина «MAD LAB» Владимир Шелухин: «В самой прозаической обстановке, не проливая ни капли крови, без нажима, приоткрывая свои карты в самом начале и играя без ухищрений, автор незаметно заманивает нас в паутину поначалу неощутимого, но оттого еще более странного зла, перед которым человек бессилен. Неспешное, какое-то сонное даже течение дней, скрупулезно отраженное дневником последней жертвы, усыпляет нас, знающих и понимающих куда больше беспечного студента-медика». Но с тех лет раз за разом переиздавалась лишь «Альрауна» в достаточно вольном переложении Михаила Кадиша (1912). Настоящее издание призвано исправить ситуацию и напомнить о невиданной силе Эверса – мастера короткой формы.
Его произведения способны «выстрелить» до сих пор – помимо самих сюжетов, есть в них и многослойные подтексты для тех, кто хочет их открыть. Для Эверса форма была маской содержания, которое он хотел донести, – маской разной степени непрозрачности. По его мнению, и физическое тело также было маской истинного, внутреннего «я». Как писал Ханс Эверс в своем раннем дневнике: «Как я счастлив, когда могу заставить людей поверить, что я холодный, жестокий и циничный; я всегда думаю: это мне подходит! Но все это – просто жалкая ложь».
Nachtmahr
1922
…Поэтому я верю, что ощущения содержат нечто большее, чем воображают себе философы. Они – не просто пустое восприятие определенных впечатлений, рожденных в мозгу; ощущения не только дают душе представления о вещах, но также действительно представляют объекты, которые существуют вне души, хотя невозможно понять, как это происходит на самом деле.
Леонард Эйлер.
Письма немецкой принцессе. Т. II, с. 68
Они сидели в вестибюле санатория, развалившись в кожаных креслах, и курили. Из танцевального зала неслась музыка.
Эрхард достал часы и зевнул.
– Час поздний, – заметил он, – и пора бы им уже закончить.
В этот момент к ним подошел молодой барон Гредель.
– Я помолвлен, господа! – возвестил он.
– С Эвелин Кещендорф? – спросил толстый доктор Хандл. – Быстро вы!
– Поздравляю, кузен! – воскликнул Аттемс. – Телеграфируй мамочке.
Но Бринкен сказал:
– Осторожно, мой мальчик! У нее губы типичной англичанки – плотно сжатые, и ни намека на чувственность!
Красавец Гредель кивнул:
– Ее мать родом из Англии.
– А я и не сомневался, – сказал Бринкен. – Вы играете с огнем, юноша!
Но барон не слушал. Он поставил на стол бокал и побежал танцевать.
– Вы не любите англичанок? – спросил Эрхард.
Доктор Хандл захохотал:
– Разве вы не знаете? Он терпеть не может женщин с происхождением и положением в обществе, особенно англичанок! Ему по душе только глупые и дородные бабы, знающие от силы пару человеческих слов, – коровы да гусыни!
– Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste! [1] – процитировал Аттемс.
Бринкен пожал плечами:
– Может, это и так, не знаю. Но было бы неверно утверждать, что я ненавижу умных женщин; если ум – их единственная добродетель, они вполне способны прийтись мне по нраву. В вопросах любви я остерегаюсь тех дам, у кого – чувства, дух, развитая фантазия. Коровы и гусыни, по мне, почтеннейшие животные: кушают злак и сено, ничуть не посягая на своих собратьев.
Присутствующие не торопились с реакцией на его слова, и он продолжил:
– Ежели интересно, я поясню свою мысль. Сегодня рано утром, когда солнце только всходило, я прогуливался по Val Madonna и увидел пару изнывающих от любви змей, двух толстых гадюк синевато-стального цвета, каждая – с полтора метра длиной. Они скользили между камнями – то расползались, то возвращались друг к другу, обменивались шипением; а потом переплелись крепко и, встав дыбом, принялись рас качиваться на своих хвостах. Их головы прижимались друг к другу, пасти были раскрыты, а раздвоенные язычки раз за разом пронзали воздух, как две маленькие молнии! О, нет ничего прекрасней этой брачной игры! Их отливавшие златом очи сверкали; мне мнилось, будто на головах у них красуются яркие короны! Потом, измотавшись, они упали наземь, по разным сторонам, да так